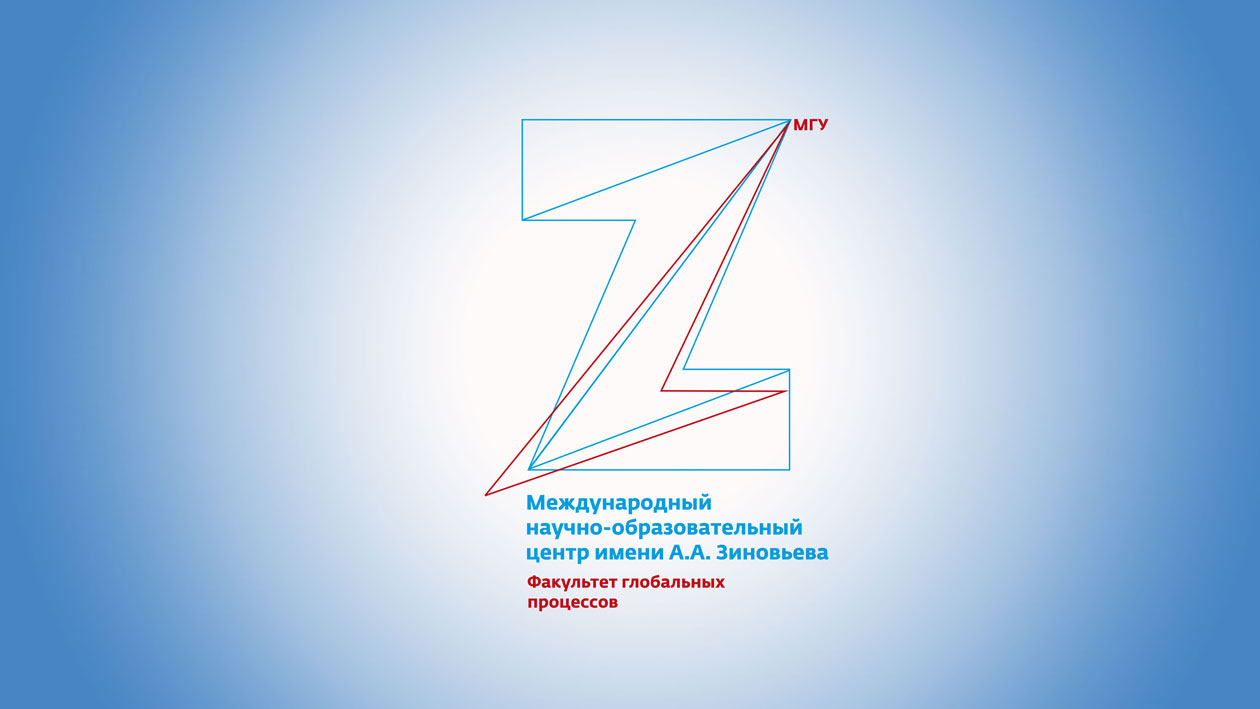
27 ноября 2014 года (четверг), в 18-00 в Главном гуманитарном корпусе МГУ (аудитория П-6) состоялась традиционная лекция Международного научно-образовательного центра имени А.А. Зиновьева ФГП МГУ в рамках цикла “ДЕКАН ПРИГЛАШАЕТ” (тема предложена факультетом).
Лектор: Сергейцев Тимофей Николаевич
Тема: “Постмарксизм Александра Зиновьева и Московский методологический кружок как преодоление догматизма в русской философии советского периода”
Сергейцев Тимофей Николаевич
- Методолог, философ;
- Член Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня»
- Выпускник Московского физико-технического института и Российской правовой академии Минюста РФ; Участник Московского методологического кружка, соучредитель Фонда «Архив Московского методологического кружка», член Попечительского Совета Фонда ”Архив ММК”;
- Сценарист и продюсер фильма «Матч», посвященного известному «матчу смерти» футболистов киевской команды “Динамо с фашистскими оккупантами в 1942-м году;
- Соавтор книги «Русский урок истории» и нескольких десятков статей в проекте «Однако», колумнист МИА “Россия сегодня”;
- Практик политических и избирательных кампаний (в том числе трех президентских).
ВИДЕО
СИНОПИС:
Введение. Глобалистика невозможна без двух дисциплин философско-методологического плана: философии истории и синтеза знаний. Если первая стала полем дискуссии во всей гуманитарной мысли, включая философию в качестве центрального пункта уже в 19-м веке, то постановка второго вопроса возникла после Второй мировой войны, и русская философия советского периода была одним из пионеров этого интеллектуального прорыва.
1. Маркс не только поставил вопрос о научном познании исторического процесса, ответив тем самым Декарту на его принципиальный анти-историзм и исторический нигилизм, но и сделал это, выдвинув требование возвращения философии ее явной и определяющей роли как в создании, так и в опровержении научного знания. Тем самым философия была рассмотрена принципиально анти-догматически, вопреки представлениям скептиков, которые и ввели сам термин “догматизм” как синоним всякой философии.
2.Несмотря на то, что лозунг анти-догматизма был написан на знаменах самого марксизма, в СССР, начиная с “философского парохода” (1922), философская мысль, став основой официальной идеологии, последовательно заменялась религиозной догматикой светской веры в коммунизм, которую первая русская философия (С.Булгаков) точно квалифицировала как религию человеко-божия. Метод преодоления этой догматики актуален и сегодня, поскольку сейчас мы мыслим в условиях догматов светской веры в демократию того же интеллектуального происхождения. Сама по себе метафизика — еще не догма. Но она становится таковой, если превращается в символ веры.
3. После смерти И.Сталина на философском факультете МГУ началось возрождение русской философской мысли. Она самостоятельно вышла на путь поисков и западной пост-марксистской мысли (от Ф.Ницше и неокантианцев к М.Хайдеггеру). Основной спор 1954 года происходил между группами Эвальда Ильенкова и Александра Зиновьева. Группа Ильенкова утверждала принцип тождества бытия и мышления. Группа Зиновьева — их различение и противопоставление. Ильенковцы утверждали, что философия имеет своим предметом познание, а не мир. Зиновьевцы — что познание, и, тем самым, мир. Так третья русская философия начала восстанавливать полноту философской мысли, необходимую для следующего шага после Маркса — через спор нео-гегельянской и нео-кантианской позиций. И та, и другая позиции были направлены против догматики вульгарного материализма — натурализма с его теорией “отражения”.
4. Диссертации Ильенкова и Зиновьева обе были посвящены методу восхождения от абстрактного к конкретному. Это не удивительно. Тезис об исторической конкретности истины — центр марксистской методологии, и, одновременно, основная догма коммунистической церкви — после утверждения о неизбежности коммунизма. Чуть позже западная методология науки (Т.Кун) установила догматический, сектантско-религиозный способ создания любого научного знания в опоре на т.н. парадигмы. Но всякая парадигма исторически неизбежно опровергается, именно опровергаемость — признак научности знания (К.Поппер). Так что же есть истина? Марксисты-гегельянцы настаивали, что диалектика — не только фиксация неизбежности опровержения любого знания, но и конструктивный метод его создания. Зиновьев же показал действительно конструктивную логическую и методологическую анатомию конкретного. Так открылась новая глава как русской, так и мировой философии.
5. Созданная А.Зиновьевым методология познания конкретного как последовательного конструктивного усложнения знания стала основой методологии и логики системного анализа, развитого также учеником и коллегой А.Зиновьева в рамках Московского логического, а потом и методологического кружков — Георгием Щедровицким. Идея синтеза знаний, выводящего за границы сложившихся научных предметов, лежит в основе представления о мышлении как деятельности со знанием, построения и употребления знания. Г.Щедровицкого этот путь привел к преодолению марксовой метафизики труда в созданной им онтологии деятельности. А.Зиновьев, опираясь на свой метод, проблематизировал основную социологию 20-го века: марксов классовый анализ. А.Зиновьев вновь поставил вопрос об основном объекте знания об обществе — о власти, ввел понятие сверхвласти. И субъектом этой власти оказалась сама наука.
ПОЛНЫЙ ВАРИАНТ
Введение.
Глобалистика невозможна без двух дисциплин философско-методологического плана: философии истории и синтеза знаний. Если первая стала полем дискуссии во всей гуманитарной мысли, включая философию в качестве центрального пункта уже в 19-м веке, то постановка второго вопроса возникла уже после Второй мировой войны, и русская философия советского периода была одним из пионеров этого интеллектуального прорыва.
Развитие введения.
Говоря о глобальных явлениях как поводе для исследований и практики мы имеем ввиду, то, что происходит с человечеством в целом.
Собственно, мы при этом и имеем ввиду прежде всего само человечество, его идею, особые объект и предмет. Александр Зиновьев определял его как человейник.
Такое представление отнюдь не самоочевидно. Представления ветхозаветные — о бого-избранном народе, представления времен географических открытий и колонизации — о белой расе и бремени белого человека, представления 19-го века между наполеоновскими войнами и мировыми — о европейском концерте как основе системы международного права, представления о варварстве за границей — от греческих и римских до китайских — все эти представления не предполагают никакого человечества. Все эти представления утверждают, что за пределами породившей их культуры — и государства — людей нет. Если отбросить полит-корректность, то таковы действительные представление о человеке и в рамках любой национальной идеологии (т.е. культуры, обладающей политическим, государственным суверенитетом) и сегодня.
Однако, практическая необходимость глобального подхода свзана как раз во многом с последовательно углубляющимся кризисом государства как основного цивилизационного института, как конструкции власти. Этот кризис происходит в течение всего Нового времени, и известен под именем революционного процесса, чью очередную фазу мы наблюдаем и сейчас. Как следствие, в частности, практически утрачена работоспособная система международного права. С другой стороны — никакой альтернативы государству как клетке, единице из которой строится организм человечества все равно пока нет. Поэтому, сегодня уже ясно — строить человечество все равно прийдется из государств, а значит восстанавливать и сами государства. Но выводить государство (государства) из кризиса необходимо в рамках представлений и требований о человеке и о человечестве, к человеку и к человечеству и от человека и от человечества.
Первый радикальный призыв к универсальному человеку и следовательно, человечеству, принадлежит христианству: ни иудея, ни эллина (ап.Павел, Гал. 3,26-29). Одновременно христианство вводит представление об общей судьбе всех людей, которая имеет начало, кульминационные события и конец. Именно эта конструкция универсального человеческого бытия и есть история. История и есть первый и последний, базовый, единый процесс существования человечества, то есть собственно основной глобальный процесс. Вечность и существование принадлежат Богу, а не бытию. Мир же смертен — как и человек, как и человек он был рожден. Бытие — не существует, а лишь о-существляется, как и человек. И человек есть сущность мира, сущность бытия. Бытие может быть познано — но через человека и как человек. Человек собирает в себе бытие, как в фокусе и живет им. Бытие может узнать себя только через человека. Бытие поэтому нуждается в человеке.
Оставим пока в стороне интеллектуальные последствия идеи истории — а они всеобъемлющи и фундаментальны для всего нашего знания, для нашей человеческой судьбы. Заметим также, что для полновесного содержательного обсуждения темы догматизма, нужно двигаться как минимум в рамках связи и отношения веры, знания и истины, а для осмысленности этого самого же обсуждения — в рамках связи и отношения религии, науки и философии. Здесь мы будем двигаться более прикладным и прагматичным образом, анализируя свою интеллектуальную ситуацию. Однако следует помнить, что актуальные границы нашей ситуации, т.е. того, что влияет на нас существенно и непосредственно — пусть и известно часто под другими именами и в часто в чужом обличии — включают в себя как античную, так и христианскую мысль, мысль научную и пост-научную. Ничто не устарело, в противоположность тому, что говорит нам идеология прогресса. Мы живем и действием под растущим давлением всей мысли человечества, это давление и есть давление истории, это и есть история — все реализуемые цели, идеи, намерения.
Существует и принципиальная оппозиция историческому подходу в области прикладного знания. История, говорит эта оппозиция, в лучшем случае объясняет, что было или — в совсем редких случаях — что же происходит сейчас — но она не о том, что будет. А нас должно волновать будущее: как предсказать его — в нуждах управления, или как построить — в нуждах проектирования, или как сделать и то, и другое вместе — в нуждах программирования. Одним словом, нас должен волновать вопрос о знании в его инженерной постановке. История не отвергается инженерным подходом, но рассматривается им лишь как знание о материале, с которым мы имеем дело: человеческом, природном, знаковом. Собственно, история разделяет здесь судьбу и научного знания — ведь оно тоже лишь о том, что есть, но не о том, что будет. Бурное развитие науки создало огромное количество предметов, не связанных между собой содержательно. Разумеется, возникло множество смежных дисциплин, но и само их возникновение еще острее ставило вопрос об универсальных знаниях, или об универсальном способе употребления знания. Стоит этот вопрос и сегодня, и в том числе и потому, что исторический подход, которому противопоставляется подход инженерный, дает как раз образец универсальных оснований для мышления и деятельности человека. Надежда на создание универсальных не-исторических оснований для синтеза знания, способного рассматривать в том числе историю в целом как опыт, над которым возможно господство знания, связана с развитием системных представлений, относящихся к уже к пост-научному этапу развития мысли. Именно драма рождения этих представлений, противостоящих высокоразвитому и потому уже основательно догматизированному марксистскому историзму и разворачивалась в русской философии советского периода сразу после войны и смерти И.Сталина.
Однако прежде, чем перейти к рассказу об этих фундаментальных и определяющих для нас событиях, нужно дать еще одну характеристику той неизбежно пост-научной ситуации, в которой оказывается глобальный исследователь, исследователь человечества. Эта постановка проблемы принадлежит участнику Московского методологического кружка В.Лефевру. Исследователь системы, обладающей разумом, должен задать себе вопрос — а его собственный, исследовательский разум — насколько сильнее или слабее того разума, который он исследует? И не рассказывает ли ему, исследователю, объект, в кавычках, его исследования сказки, управляя и исследованием, и исследователем? Это уже не проблема наблюдателя квантовых явлений, где наблюдатель влияет на наблюдаемое явление, хотя и тут мы уже имеем дело с ситуацией системы — наблюдатель — ее часть. Как мыслит человечество? И кто может его исследовать? Возможно, только оно само, или его специальные институты, способные на это? Как стать соразмерным? И при решении всех этих вопросов — как учитывать собственную включенность исследователя в свой же объект? Представляется, что обращение к философской и методологической работе в области оснований тут неизбежно.
1.Тезис.
Маркс не только поставил вопрос о научном познании исторического процесса, ответив тем самым Декарту на его принципиальный анти-историзм и исторический нигилизм, но и сделал это, выдвинув требование возвращения философии ее явной и определяющей роли как в создании, так и в опровержении научного знания. Тем самым философия была рассмотрена принципиально анти-догматически, вопреки представлениям скептиков, которые и ввели сам термин “догматизм” как синоним всякой философии.
Развитие тезиса.
До всякого противопоставления историзму с точки зрения инженерной позиции мы найдем в истории философской мысли полное отрицание исторической действительности вообще — и при обосновании именно научного мышления. Противопоставление это строится на подмене истории историграфией, которую изучают не на вашем факультете, а на историческом. Историография — описание истории — которую как дисциплину основал Геродот, расследует подлинность свидетельств, являясь по существу продолжением юридической мысли. Особенность в том, что свидетели уже мертвы. Заметим, что правовая мысль и практика являются, видимо, источником не только историографии, но и логики, таких знаковых конструкций, как факт вообще и доказательство вообще. Но что бы ни удалось выяснить о подлинности и достоверности документов, остается открытым вопрос: о чем они? То, что описано, безотносительно к правдивости и полноте описания, вообще существенно? Как это узнать? Геродотовский подход ничего об этом не говорит. Философия истории придумала формальный ответ на этот вопрос: объектом исторического знания являются со-бытия, своего рода узлы, фокусы , точки концентрации бытия, его исторические клетки. Их удобно считать также узлами причинно-следственных связей, или связей телеологических, целевых, когда мы считаем, что история стремится к чему-то. Однако, тут тоже нет ничего, чего бы не было уже в правовой действительности, в анализе отдельных поступков отдельных людей. Цель — это та же причина, только помещенная в будущее, умысел. Причинно-следственная связь — доказательство виновности, происходящей из умысла. Приговор — заложенная в доказательство логическая определенность результата. Виновный должен быть определен и наказан. Неудивительно, что историография становится носителем софистики и доказательств совсем другого рода — идеологических. Раз сущности нет, ее можно подставить. Однако историзм как метод тем и силен, что он не строится на причинно-следственных связях. Как, впрочем, и наука.
Декарт просто определял значение историографии, отождествляя ее с историей — сказки, россказни, брехня. Все это должно быть подвергнуто радикальному сомнению. Есть лишь одно несомненное — сам себе очевидный субъект. А ведь история — это как раз неочевидность этого самого субъекта, если смотреть из позиции постулата Декарта. Учитывая, какое здание научных предметов, представляемых самоочевидным самому себе субъектом, было построено — и названо в совокупности Природой — марксово требование признать исторический процесс существующим, являющимся первичным по отношению к любому другому существованию, являющимся процессом изменения самого бытия, истины как таковой — с собственно научной, картезианской точки зрения является полной ересью. Но Маркс ответил на вопрос что есть история не как сказки на ночь, а как процесс — вслед за Гегелем — история это изменение человеческой деятельности, практики, и, с неизбежностью, мышления. В этой истории гораздо больше действующих лиц, нежели только герои и короли. Носителями мышления и деятельности вообще являются не только люди в качестве индивидов, присутствующих особей. Декарт считал, что несомненный субъект — при условии тотального скепсиса (то есть исследования, расследования), способен отыскать нечто, подобное по своей несомненности самому себе, при условии, что он будет опираться на метод, который может развивать по своему усмотрению, опять-таки исходя из своей несомненной способности представления. Три с лишним века научного мышления показали, что и знание о природе изменяется путем постоянного опровержения несомненных научных утверждений. последовательно развивается же человеческая деятельность, то есть эксперимент — воспроизводимое применение научного знания, и технологии — воспроизводство систем эксперимента, воспроизводство этих систем воспроизводства и так далее. Наука оказалась сама такой же историчной, как и любая другая человеческая деятельность, даже более историчной, поскольку ее утверждения об объектах, о том, что существует, опровергались ею же самой гораздо быстрее, чем это происходило в области философии и религии. Именно это — историческая особенность научного мышления. Если самоочевидный субъект (то есть — под-лежащее, лежащее “под”, существующее) наделен личностью, “я”, сознанием-мышлением-восприятием в самом широком смысле слова — все это укладывается в латинскую форму cogito — и благодаря когитации он и существует — и если это не старый добрый Бог христианской теологии, то тогда есть два варианта. Или мы подкладываем на место, освобожденное Богом в этой конструкции эмпирического субъекта. Попытка такой подстановки — вся история Нового Времени, начиная со смертного Бога Гоббса — Левиафана, т.е.государства, и, через народ и нацию — кончая отдельно взятым человеков в роли Бога, то есть коммунизмом и нео-либерализмом. Или мы должны ответить, что таковой субъект не сводится к своим эмпирическим проявлениям, не редуцирован до психики, до познания в узком смысле — тогда нам нужна философия этого субъекта, критическая, а не произвольная методология его деятельности, не сводящаяся к “поиску вообще”. Вот что пишет по этому поводу Густав Шпет, предтеча возрожденной после войны русской философии:
“…негативная философия… в своем мнимо-утверждении, в софизме, задачи “первой” философии (т.е. философии начал — по Шпету, Т.С.) видела в изучении не познаваемого бытия, а познающего субъекта, но опять-таки, не в его бытии, … а только в его познавательных формах” . То есть — бессодержательно. И далее:
“…важный момент в истории философии, который…объясняет…широкое господство в современной философской мысли негативизма. …положительная философия часто выражалась как в решении, так и в постановке своих задач… неполно. Обращая все свое внимание на решение проблемы о бытии, с первых же своих шагов (Платон) она находит различие между действительным и идеальным бытием…, но она оказывается неполной в том смысле, что она не обратила должного внимания на бытие самого познающего субъекта. Именно этот пробел и использовала с таким успехом негативная философия. … этот пробел превращался … в ошибку, когда положительная философия пыталась представить бытие познающего субъекта как как эмпирическое действительное бытие” (“Явление и смысл”, Москва, 1914 год).
Маркс ясно показал, что в истории — когда мы хотим сделать ее объектом исследования — постоянно меняются и объект, и субъект. Они сами входят в нее.
2.Тезис.
Несмотря на то, что лозунг анти-догматизма был написан на знаменах самого марксизма, в СССР, начиная с “философского парохода” (1922), философская мысль, став основой официальной идеологии, последовательно заменялась религиозной догматикой светской веры в коммунизм, которую первая русская философия (С.Булгаков) точно квалифицировала как религию человеко-божия. Метод преодоления этой догматики актуален и сегодня, поскольку сейчас мы мыслим в условиях догматов светской веры в демократию того же интеллектуального происхождения. Сама по себе метафизика — еще не догма. Но она становится таковой, если превращается в символ веры.
Развитие тезиса.
Истина исторически относительна потому, что она сама есть история, она переживает историю. Это, однако вовсе не означает произвольности истины — прежде, чем исторически конкретное утверждение не будет опровергнуто, оно остается истинным. И опровергнуть его можно только проделав всю работу, предусмотренную историей, в которой есть не только “прогресс”, но многочисленные “возвращения назад” в качестве необходимого элемента. Человечество должно много раз забывать то, что оно уже нашло, начинать снова и снова. Относительность истины не избавляет от необходимости занимать свое место и позицию в истории, фиксировать основания. Тут нет никакого догматизма. Труд тех, кто ошибался — как выяснилось или выяснится — не менее важен, чем труд тех, кто оказался прав, и снова станет неправ в следующей фазе процесса. Однако, победивший в философии историзм создал и свою тень — негативную философию, нигилизм, утверждение о необходимости отказа вообще от всякой метафизики, в том числе и ограниченной какими-либо условиями своего утверждения — от онтологии. Ницше дал детальное изъяснение этого нигилизма как венца западно-европейского мышления, он первым вывел формулу об истине как о произволе сверхчеловека, чистом средстве сверх-человека, то есть того самого очевидного самому себе субъекта познания и опыта вообще, добившегося эмпирического существования и, тем самым, победившего историю, а значит — и истину. Человек убивает Бога, занимает его место и, наконец-то, освобождается от своего проклятия — от истории. Несмотря на поэтическую форму, а скорее — именно благодаря ей — Ф.Ницше выразился предельно ясно о том, какие конкретно сюрпризы поджидали человечество в конце 20-го и начале 21-го. Еще один немецкий автор — Освальд Шпенглер, также последователь исторической школы, истратил тысячи страниц для описания кризиса Запада в абсолютно узнаваемых сегодня конкретных сюжетах, дал анализ предстоящего социализма как исторической действительности — сразу после окончания Первой мировой войны. Но еще до конца 19-го века, последнего века европейского счастья и культуры, Ф.Ницше дал самое емкое определение будущего, которое, по мнению М.Хайдеггера, полно, ясно и ужасно описывает все происходящее с нами: “Пустыня растет”. Догма человека-бога была учреждена и прочно утверждена. В результате человек лишился своего действительного, подлинного, исторического существования.
Большевики, прекратив буржуазную революцию, свернув исторический проект, заведомо устаревший уже тогда, когда он осуществлялся во Франции за 125 лет до текущего момента, и который потому должен был неминуемо привести к демонтажу страны, конечно же реализовали в России высшее достижение европейской исторической мысли — социализм. Если мы посмотрим на русские партийные дискуссии начала 20-го века, на общее состояние умов интеллигенции — социализм в самом широком его понимании был консенсусом. Равно как и в Западной Европе. Социализм перешел из области идей в поле общеевропейской политической практики. Так что вопрос был только в одном — кто это сделает первым. И кто для этого возьмет власть. Самодержавие явно не могло — именно этого оно и не могло, а вовсе не отдать страну буржуазии, что как раз было сделано — и практически добровольно. Не смогло и правительство, удивительно точно названное Временным.
Так что действительное превосходство новой власти было абсолютным — и прежде всего интеллектуальным, научным и философским. Она сделала то, что хотели все в Европе, но не решились или не смогли. Результатом стало выживание в исторических условиях полной обреченности, победа в Мировой войне, начавшейся вместе с веком. При этом практика социалистического реального строительства не имела по содержанию ничего общего со светской верой религии коммунизма, человеко-божия в русском исполнении, которая поддерживала новую, лишенную традиции власть. Социализм, по точному определению Шпенглера, это государственная забота об общем будущем (или госкаптиализм — по справедливому, но не до конца — обвинению троцкистов, см. Тони Клифф, “Государственный капитализм в Росии” 1955т г., или “Природа сталинской Росси”, 1948 г.) и солидарность как по горизонтали, так и по вертикали. Но впереди забрезжила власть над миром. Компартии Франции и Италии, разделенная Германия делали Западную Европу заманчивой добычей — коммунизм, а вовсе не военная мощь СССР. Снова ожил призрак мировой революции, от которого Сталин, став руководителем страны, решительно отказался — как начинал ограничивать и сам коммунистический религиозный угар. Впоследствии разоблачение культа личности стало реинкарнацией коммунистичекой веры, органично перешедшей после буржуазной революции 1991-го года в веру демократическую. 1960-е годы прошли под лозунгами возрождения коммунистической утопии (см. об этом “60-е. Мир советского человека”, П.Вайль, А.Генис, М.,2013 г.). Реализм сталинского правления жрецы коммунистической церкви отождествили с репрессиями, так же, как жрецы демократической церкви с брежневским застоем отождествили брежневский хозяйственный реализм. Но именно он нам дал сегодняшние нефть и газ. Однако в начале 1950-х сложилась удивительная ситуация: руководство страны ослабило идеологические вожжи, чтобы совершить свой утопический маневр, но именно это ослабление сделало возможной дискуссию о явном несоответствии нашей практики и нашей в кавычках теории, коммунистического догмата. Центральной фигурой в этой дискуссии стал Александр Александрович Зиновьев.
3.Тезис.
После смерти И.Сталина на философском факультете МГУ началось возрождение русской философской мысли. Она самостоятельно вышла на путь поисков и западной пост-марксистской мысли (от Ф.Ницше и неокантианцев к М.Хайдеггеру). Основной спор 1954 года происходил между группами Эвальда Ильенкова и Александра Зиновьева (см. например Г.Щедровицкий, “Я всегда был идеалистом”, М.2001 г.). Группа Ильенкова утверждала принцип тождества бытия и мышления. Группа Зиновьева — их различение и противопоставление. Ильенковцы утверждали, что философия имеет своим предметом познание, а не мир. Зиновьевцы — что познание, и, тем самым, мир. Так третья русская философия начала восстанавливать полноту философской мысли, необходимую для следующего шага после Маркса — через спор нео-гегельянской и нео-кантианской позиций. И та, и другая позиции были направлены против догматики вульгарного материализма — натурализма с его теорией “отражения”.
Развитие тезиса.
Забегая вперед, следует сказать, что в 1970-е, когда коммунистическая утопия уже увяла (а увяла она к 1968-м году, вторжение в Чехословакию и внутренняя реакция на него сделала этот факт явным), Зиновьев перешел от философской и методологической рефлексии к предметно-социологической критике “реального коммунизма” в знаменитом романе “Зияющие высоты”, продолжив русскую литературно-философскую традицию Достоевского (“Бесы”, “Великий инквизитор”). Ошибкой с точностью до обратного является квалификация этой работы как анти-советской. Зиновьев защищал систему, требуя ее реального анализа. Как и многие, кто хотел развития страны, но не имел соответствующего “церковного сана”, права на критику — а иначе и не могло быть в догматической организации идеологии — он был отправлен в изгнание.
Но 1954-м все еще было по другому. Дискуссию, о которой идет речь (тогда она называлась “дискуссией гносеологов”), объявил не Зиновьев и не Ильенков, ее объявило руководство факультета в лице Теодора Ойзермана, который был очень авторитетной фигурой и, кстати, до сих пор жив, ему более ста лет. Господствующим, собственно догматическим воззрением в среде официальных работников философского, а значит — идеологического “фронта” — был вульгарный материализм, натурализм, наслаждавшийся “победой марксизма-ленинизма на практике”, и не видевший вообще никакой проблемы познания как таковой — бытие есть само-движущаяся материя, которая отражается в материальном же сознании — как в зеркале и, само собой, познается. Вопрос о том, кто же смотрит в это зеркало вызвал бы недоумение — само сознание и смотрит. Зеркало смотрит в зеркало? Прекратите схоластику! Вот что бы сказал на это преподаватель. Победителей не судят. Платоновский рассказ о пещере, куда правдоподобнее намекающий на действительно существующие проблемы познания, очень далек, разумеется, от этой поэтики отражения. Не говоря уже о том, что в зеркало смотрят, прежде всего чтобы увидеть себя. Если материя познает саму себя, но для этого ей нужно зеркало, то что оно само такое? И так далее. Тут мы сталкиваемся с фундаментальной проблемой монизма-плюрализма. Вульгарный материализм-натурализм, настаивая на единственности существования, вынужден был все проблемы действительной множественности бытия (не вещей, которых, ясное дело, много, а их бытия) решать за счет диалектики, непомерного расширения ее “зоны ответственности” и, в конечном счете — догматизации. Важнейшим достижением Платона было философское открытие множественности существования. Суть вот в чем — если наш ум, подобно глазу, видит вещи, то для этого, кроме глаза и вещи нужно еще нечто третье — сам свет. А для существования света нужен его источник. Так появляется мир идей Платона и идея блага, как центральная. Впоследствии теология будет учить, что источником света познания, идеального является Бог. Бог полагает бесконечность и самого мира идей, а значит и возможность неограниченно двигаться в познании, в истории. Николай Кузанский выводил из Бога действительное существование бесконечности и, тем самым, проект современной нам науки и ее математики. Грекам это было недоступно. Само утверждение о различном существовании и противопоставлении миров бытия и мышления уже требует философского плюрализма. Так что пострадавшей стороной в этом споре стала третья сторона: догматический костяк факультета. Дискуссию довольно быстро закрыли. Однако и Ильенков, и Зиновьев, а также их коллеги и ученики успели продвинуться достаточно далеко, чтобы русская философская мысль вспомнила себя, философскую традицию и основное назначение философии — заниматься основаниями знания, а не обслуживать нужды светской религии и ее догматики, доводя градус относительности истины до синхронных колебаний с линией партии. Вот как Густав Шпет в 1914-м году обозначал тот путь, на который по-сути вышла факультетская дискуссия 1954-го года:
“…случайности фактов, “бытия в мире”, противостоит нечто, что характеризуется, как необходимость сущности, как “бытие в идее”, и мы можем соответственно говорить о науках идеальных, эйдетических, или науках о сущностях, в противоположность эмпирическим наукам, или наукам о фактах”
4.Тезис.
Диссертации Ильенкова и Зиновьева обе были посвящены методу восхождения от абстрактного к конкретному. Это не удивительно. Тезис об исторической конкретности истины — центр марксистской методологии, и, одновременно, основная догма коммунистической церкви — после утверждения о неизбежности коммунизма. Чуть позже западная методология науки (Т.Кун, “Структура научных революций”, М., 1975 г.) установила догматический, сектантско-религиозный способ создания любого научного знания в опоре на т.н. парадигмы. Но всякая парадигма исторически неизбежно опровергается, именно опровергаемость — признак научности знания (К.Поппер, “Логика и рост научного знания”, М., 1983 г.). Так что же есть истина? Марксисты-гегельянцы настаивали, что диалектика — не только фиксация неизбежности опровержения любого знания, но и конструктивный метод его создания. Зиновьев же показал действительно конструктивную логическую и методологическую анатомию конкретного. Так открылась новая глава как русской, так и мировой философии.
Развитие тезиса.
Правовая мысль, логика и историография не могут игнорировать факты, так как факты и есть их основная действительность. Что, то может быть отвергнуто, отвергается как не-факт, как не-доказанное, Но доказанное, ставшее фактом — никогда, оно должно учитываться. Это собственно и сдерживало развитие научного мышления. Царство факта по-сути — это царство логического догматизма, абсолютизации доказательства, царство Аристотеля, а не Платона. Обращение к опыту как источнику познания означает возможность искать и создавать факты, предпочитать одни факты другим — это собственно и есть опыт как познание. Этим определяется разница между физикой Аристотеля и физикой Галилея. Но что позволяет преодолеть логический догматизм? Факультетская философия и сегодня грешит приверженностью к Аристотелю — как и официальная средневековая теология. Что позволяет рассмотреть логику не как метафизическую данность, а как средство, в рамках метода? Г.Щедровицкий любил повторять мысль Галилея: “Если факты противоречат моим теориям, то тем хуже для фактов”. Согласиться в развитии знания с неизбежностью и даже движущей силой противоречий — логически недопустимого явления в теле теории, помогла диалектика — философская рефлексия места логических средств в мышлении. Однако и ее можно догматизировать, превратить в законы формального опровержения любого утверждения, в то время как исторически опровержение — это конкретный результат концентрации содержания, опрокидыващего теорию в целом. Томас Кун показал, что история науки строится не как накопление знания, а как последовательность революций, в промежутке между которыми узкие группы ученых-профессионалов, школы, по сути — секты, ведут отбор фактов — и создание новых — в рамках объединяющей их парадигмы — набора представлений, принимаемых без доказательства. Собственно сама способность принять такую совокупность взглядов без доказательств и отделяет ученого от философа.
Наука у нас была разрешена, если не противоречила, хотя бы и при неверном понимании ее основ, догматам вульгарного материализма. Так не повезло, например генетике, она была осуждена как идеализм. Но вот философия — как принципиально а-догматическая дисциплина ума — была запрещена в принципе, и именно с помощью диалектической фразеологии. В отличие от естественных наук, историческое развитие которых анализирует Т.Кун, Маркс строил научную политэкономию и историю, сначала самостоятельно сформировав их философские основания, а потом самостоятельно догматизировав их — в “хорошем”, научном смысле, перешел собственно к научному анализу. Идти путем научной революции по Т.Куну у послевоенных советских философов не было возможности по двум причинам. Во-первых, русская мысль лишилась накопительных ресурсов исторического процесса, многообразия школ еще в 1922-м году, в том числе и экономических и социологических. Во-вторых — по причине полной невозможности вообще обсуждать какие-либо теоретические альтернативы Марксу в части предмета. А чтобы подвергнуть анализу философский базис марксовой теории, нужно было бы сначала восстановить его содержание, освободив от вульгарной натуралистической трактовки, а потом еще и критически отнестись к нему. Вряд ли это было возможно. Тем самым русские оказывались отрезанными от развития западной линии развития философии, а значит — и всех социально-гуманитарных наук, которая отталкивалась от Маркса — либо разрабатывая его представления, либо критикуя и пытаясь выйти к новому, пост-марксистскому горизонту. Но Зиновьев находит решение — подвергнуть анализу метод Маркса, превращая безвыходную ситуацию в ресурс мыслительной работы и прорыва, в способ ускорения истории (что сделал и сам Маркс). По сути он возвращается к декартовой идее метода и, тем самым, восстанавливает картезианскую проблематику познания. Для одного из участников Московского логического кружка, участника зиновьевской группы Мераба Мамардашвили картезианские размышления станут темой философской работы на всю жизнь. Заметим, что главный западный пост-марксист Мартин Хайдеггер также кладет в центр своей критики европейской метафизики анализ постулата Декарта. Другой зиновьевец, Георгий Щедровицкий, построит позже дисциплину метода — методологию, соединяющую в качестве основания для построения методов мышления представление о самом мышлении с представлениям о его содержании. Именно так и устроена диссертация А.Зиновьева. Это не формальный “логический” анализ “Капитала” Маркса, и не пустая “диалектическая” риторика по этому поводу — чего собственно и ждали философские власти на защите диссертации (которая, по словам К.Кантора в предисловии к изданию текста диссертации 2003 года, проходила четырежды), а содержание “Капитала”, схематизированное, сжатое и упакованное в радикально меньший объем текста, нежели тома “Капитала”. Главное — получилось, что Зиновьев владеет содержанием главной работы Маркса лучше самого Маркса, видит, а значит может и перейти границы этого содержания. Это было недопустимо, но уличить Зиновьева в этом не смогли, поскольку научные руководители сами явно слабо ориентировались в представленной работе, о чем свидетельствует стенограмма первой защиты, доступная на http://zinoviev.info/. Сам Зиновьев, пройдя огромный путь создания самых разных не-традиционных не-аристотелевских логик как средств научного мышления, создал и новую пост-марксистскую социологию. Это тем более существенно, что пока что общепринятой базой изучения социологии в университетах, например, США является именно марксизм (Дж.Арриги, “Адам Смит в Пекине”, Москва, 2009 г.). Он эффективно объясняет правящему классу, как править.
5.Тезис.
Созданная А.Зиновьевым методология познания конкретного как последовательного конструктивного усложнения знания стала основой методологии и логики системного анализа, развитого также учеником и коллегой А.Зиновьева в рамках Московского логического, а потом и методологического кружков (МЛК и ММК) — Георгием Щедровицким. Идея синтеза знаний, выводящего за границы сложившихся научных предметов, лежит в основе представления о мышлении как деятельности со знанием, построения и употребления знания. Г.Щедровицкого этот путь привел к преодолению марксовой метафизики труда в созданной им онтологии деятельности. А.Зиновьев, опираясь на свой метод, проблематизировал основную социологию 20-го века: марксов классовый анализ. А.Зиновьев вновь поставил вопрос об основном объекте знания об обществе — о власти, ввел понятие сверх-власти. И субъектом этой власти оказалась сама наука.
Развитие тезиса.
Дадим слово соратнику А.Зиновьева Г.Щедровицкому:
“…абстракции далеко не… выделяют части изучаемого объекта. Содержание знаний, вырабатываемых при решении частных практических задач, можно уподобить проекциям, которые «снимаются» с объекта при разных его «поворотах».
…очевидно, чисто механическое объединение этих проекций не может дать представления о действительном строении объекта. Попытки такого объединения с последующей формальной объективацией полученной подобным образом системы знаний столь же бесперспективны, как и попытки получить представление о структуре детали путем простого присоединения друг к другу ее чертежных проекций.
Но как же в таком случае должен осуществляться синтез различных односторонних знаний об одном объекте?
Предположим, что проекции … «снимались» с объекта без всяких строгих правил, определяемых «природой» объекта и процедурами последующего синтеза полученных проекций…
…Нечто подобное происходило в домарксовой политической экономии, когда В. Петти, А. Смит, Д. Рикардо и другие исследователи пытались построить общую экономическую теорию, механически связывая уже имеющиеся понятия, такие, как товар, труд, капитал, стоимость и так далее.
…В том виде, как они существовали до К. Маркса, эти понятия и описания не могли быть сведены в единую систему, так как они были выработаны безотносительно к задаче синтеза.
…Маркс построил принципиально новую исходную позицию, которая позволила ему с самого начала развертывать единую структуру предмета исследования и именно в этом контексте представить все понятия как систему, связанную в целое. Методологической основой исследования явился, как известно, метод восхождения от абстрактного к конкретному, в котором были связаны в единое целое способы образования абстракций со способами их синтеза в процессе восхождения.
Щедровицкий, Г. П. Синтез знаний: проблемы и методы. 1984, http://gtmarket.ru/laboratory/basis/3961/3999#
Вот что проанализировал и выявил Зиновьев. Тем самым, он открыл путь к методологии синтеза знания, понимаемого как знание специально и заранее строящееся в предположении предстоящей задачи синтеза. То есть нужно иметь своего рода проект будущего системного знания — заранее. А знание, созданное без учета такого проекта — подвергнуть проблематизации и переделке, построить заново. Это путь ко всему системному подходу, к построению комплексных дисциплин, к социальной инженерии и глобалистике, к постижению истории.
В методолгическом анализе ММК выявлено устройство научного предмета. То есть сделан шаг к контролю над научным мышлением. Достигнут этот результат путем расщепления предмета на знание и то, к чему оно относится. То есть применен принцип разделения миров мышления и бытия, противопоставления их и связывания друг с другом, реализованы установки феноменологии, введенные в русскую мысль Густавом Шпетом.
Почему эта задача актуальна? Почему она вообще ставилась в философии?
Обсудим современную пост-марксистскую ситуацию. Хайдеггер ясно показал, что научное мышление основано на метафизике декартовского самоочевидного субъекта, и что в научном предмете, возникающем как представление такого субъекта по самой своей сути может содержаться только нечто уже представимое, заранее удобное субъекту и заранее допустимое им. До тех пор, пока научным мышлением управляет декартова субъективная метафизика, а само научное мышление господствует над человеком, человек во всех формах и институтах своего бытия от индивидуально-частного до предельно обобществленного и исторического будет стремиться стать этим самым субъектом и господствовать в качестве такового. Отсюда кризис государства как основной до Нового времени формы господства. Отсюда класс как историческая реализация декартова субъекта. Однако судьба человека в этой ситуации незавидна. С одной стороны человек стремится уйти от всякого эмпирического ограничения своей субъективности, стать Богом, но очевидно не может. Отсюда рождается атеизм — раз я не могу стать Им, значит Его нет. И вообще нигилизм как таковой — ничего того нет, чем и кем я не могу стать. Отсюда же рождается и светская вера — стать все-таки можно, но в качестве коммунистического или либерального сверх-человека. Правда, сверх-людьми станут не все и не сейчас. Сущность человека, очевидно, украдена. Куда же она делась? Он в предмете — о-предмечена. Вернуть ее оттуда, не подвергнув предмет анализу и не лишив его теневой метафизической “крыши” со стороны субъекта, видимо нельзя. Маркс трактовал декартовскую метафизику субъекта как метафизику труда. Труд — сущность человека, но эта сущность отчуждена, она о-предмечена в результате труда, становящемся товаром. Маркс проанализировал предмет через товар, через экономическое — это была его область интересов и область наиболее бурно исторически развивающаяся в его время. Маркс поэтому всю историю вывернул через экономическое. Но предмет в принципе забирает действительную сущность субъекта, — и человека, если он стремится стать субъектом. Промышленная экономика — феномен, созданный наукой, ее господством над материалом природы. Но это господство “просто так” не проходит. Научный предмет, представление определяет сущность товара, созданного промышленностью. Массовый продукт производства, основанного на научных знаниях не может быть ничем иным, нежели товаром. Он уже не сам собой, естественно, в виде излишков, а искусственно и целенаправленно создается исключительно для товарного оборота. Резкое усиление господства над природой благодаря науке невозможно без принципиального углубления и изменения господства человека над человеком. Именно это историческое явление анализирует Маркс — но только как явление. Сущность этого явления — власть и т о, что происходит с ней находится еще вне поля его анализа. Научное знание находится не только в элементе средств производства, но и в том способе, которым они принадлежат эмпирическому субъекту, правящему классу. Использование института собственности ничего не объясняет, потому что в объяснении нуждается сам этот институт. Собственность — лишь превращенная форма власти, господства. Дело в том, как используется знание и мышление, научное знание и мышление, как оно существует и функционирует в обществе. Правящему классу принадлежит не только практическое знание о природе, но и о социуме. Так научное знание и мышление создает современную власть. Из марксова анализа создается — и не без оснований — впечатление, что отчуждается только сущность пролетариев. А правящий класс ее присваивает. Однако, это не так. Да, они находятся “по разные стороны “товара”, “средств” производства. Но и те, и другие отдают себя предмету. Для правящих этот предмет имеет форму денег, а не товара, но он по определению лишен своей сущности. Обобществлять надо не собственность, а знание, но тогда его нужно “распредметить”, нужно массово научиться различать в его структуре идеальное и реальное. Тогда человек, возможно, перестанет быть субъектом и вернет себе конкретно-историческую сущность, судьбу и бытие. Но это и означает заменить марксов труд коллективной мыследеятельностью, концепция которой и стала венцом работы русского философско-методологического движения начатого А.Зиновьевым и продолженного Г.Щедровицким в ММК. Зиновьев же дал развернутый пост-марксистский эмпирический анализ власти субъекта научного мышления. В его работах она вводится через понятие сверх-власти, предсказанной еще Ницше.
Приложение: Биография Густава Шпета
Густав Густавович Шпет родился в Киеве как внебрачный ребёнок венгерского отца по фамилии Кочиш и польской матери Марцелины Иосифовны Шпет из обедневшей дворянской семьи.
В 1898 году Густав Шпет окончил вторую киевскую гимназию и поступил в Киевский университет св. Владимира на физико-математический факультет. За участие в революционном студенческом движении он был исключён из университета и выслан из Киева.
В 1901 году, вернувшись после высылки, он снова поступил в университет, теперь на историко-филологический факультет, который закончил в 1905 году. Его конкурсное сочинение «Ответил ли Кант на вопросы Юма» было удостоено золотой медали и опубликовано в университетском издательстве.
После окончания два года работал учителем в частных гимназиях. Среди прочего, преподавал в 1906/07 учебном году в киевской Фундуклеевской гимназии, где среди учениц выпускного 7 класса была Анна Горенко, в будущем поэтессаАнна Ахматова.
В 1907 году Шпет переехал в Москву, где читал лекции во многих вузах и гимназиях, в частности в Московском университете, университете Шанявского, Высших женских курсах, педагогическом институте. Ездил в Сорбонну, Эдинбург. В 1912—1913 годах стажировался в Гёттингенском университете. Слушал лекции Гуссерля по феноменологии. Результатом стажировки стала работа Шпета «Явление и смысл» (1914), в которой представлена интерпретация гуссерлевских «Идей к чистой феноменологии и феноменологической философии».
Диссертация Шпета: «История как проблема логики», защищена в Московском университете в 1916 году. В этом же году он был избран профессором Высших женских курсов и доцентом Московского университета.
В 1918 году подготовил к публикации сочинение «Герменевтика и ее проблемы», но работа была издана только в 1989—1991 годах.
С 1921 — действительный член Российской Академии Художественных Наук, с 1924 года — вице-президент РАХН (с 1927 года — ГАХН). В этот период Шпет продолжает работу над «Историей как проблемой логики», издает работы: «Внутренняя форма слова», «Эстетические фрагменты», «Введение в этническую психологию» и др.
В 1921 году возглавляет созданный Институт научной философии.
С 1932 года — проректор Академии высшего актёрского мастерства.
В 1935 году был арестован в ночь с 14 на 15 марта. После окончания следствия был осуждён по статьям 58-10 и 58-11 УК РСФСР, приговорен к 5 годам ссылки и отправлен в Енисейск, затем по его просьбе переведён в Томск.
Уже в ссылке 27 октября 1937 года арестован, обвинён в участии в антисоветской организации и 16 ноября расстрелян. В 1956 году был посмертно реабилитирован. Протоколы суда над Шпетом фигурируют в романе Михаила Шишкина «Взятие Измаила».
Последняя работа Шпета: перевод «Феноменологии духа» Г. В. Ф. Гегеля.
Биография цитируется по: www.nekropole.info/ru/Gustav-Shpet


