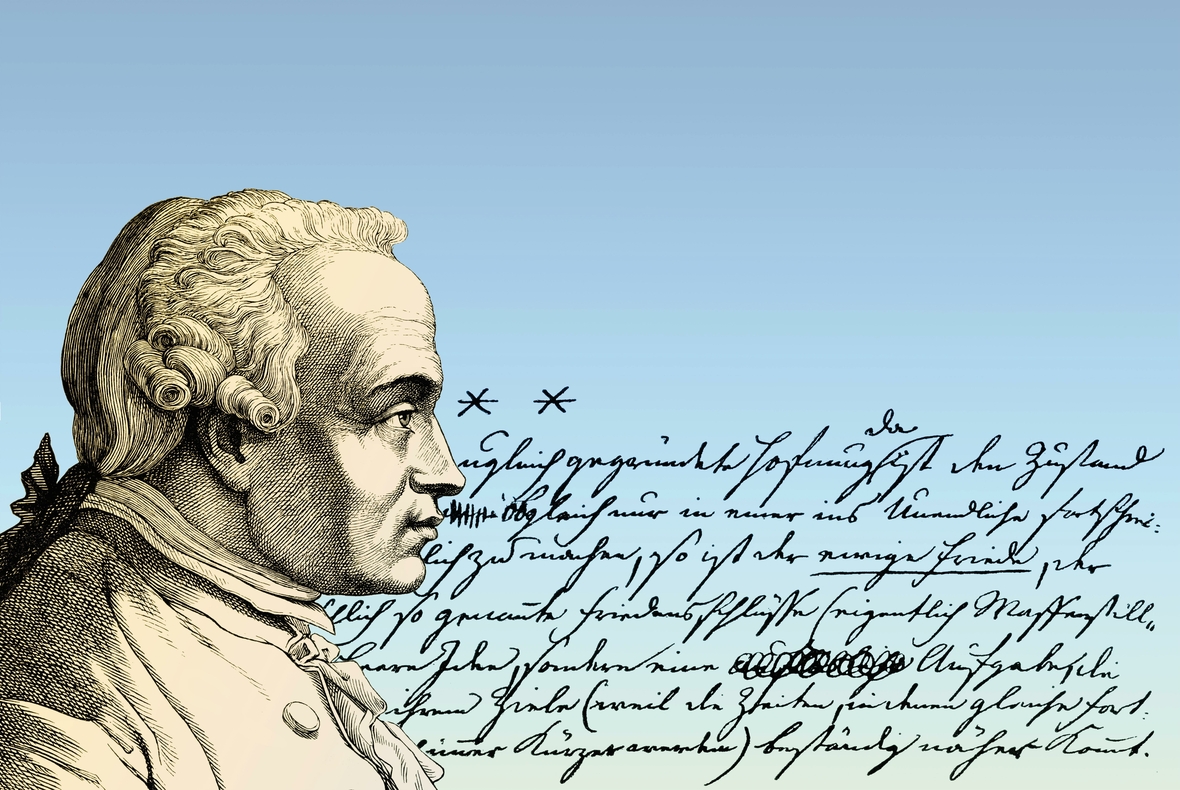Стихотворный роман Александра Зиновьева «Мой дом – моя чужбина» — уникальное явление в новейшей русской поэзии.
И дело даже не в том, что его автор, знаменитый создатель «Зияющих высот», крупнейший советский логик и социолог, философ и художник, — решил на сей раз обратиться к крупной поэтической форме. Главное — что это ему удалось сделать как всегда по-зиновьевски правдиво и уникально.
В своем литературном творчестве Зиновьев повсеместно обращается к стихотворной форме. Уже в «Зияющих высотах» большие повествовательные блоки чередуются с поэтическими строфами.
Уже Джордано Бруно в своих философских трактатах использует этот прием. Таким образом, подобная композиция имеет свое ренессансное основание. [1], [2]
Поэтические вставки внутри прозаической речи необходимы были для усиления, акцентирования внимания на той или иной проблеме. И если у Джордано Бруно они играли роль некоего резюмирующего аккорда внутри строгой прозаической философской полифонии, то у Александра Зиновьева это квинтэссенция уникального научно-художественного взгляда на конкретные социологические проблемы.
Начиная с «Зияющих высот» и далее, во всех своих последующих социологических романах, А. Зиновьев всегда будет использовать этот «силовой прием».
«По призванью я — поэт», — признается автор в первой части своего романа, — и ниже объясняет свое поэтическое кредо:
«Не стоит брать с того пример,
Кто игнорирует и рифму, и размер.
Не следуй и тому, кто только ради них
Вымучивает виртуозный стих.
Не восхищайсь и тем, кому лишь крик и вой
Есть суть поэзии как таковой.
Поэзия тогда только прекрасна,
Когда есть что сказать и говорится это ясно.
Когда внимаешь мыслям, а не голосам…»
Последний стих являет собой суть зиновьевского искусства. Мысль для Зиновьева — важнейший компонент творчества. Вне мысли нет и культуры.
В одном из поздних стихотворений Давида Самойлова (который, кстати сказать, в памятный 1939 год так же, как и Зиновьев, учился в МИФЛИ) говорится:
«Добивайтесь, пожалуйста, смысла.
Проясняйте, пожалуйста, мысли.
Понимаете? все остальное
Не имеет большого значенья»
У поэтов классического толка голоса (то есть звуки) устремляются навстречу смыслу.
«Гармония стиха у Пушкина строится по слуху, это не строительство, а архитектура, здание звуков цельным возникает в его сознании». [3]
И в то же самое время: «Пушкин ценил не необычность словосочетания, небывалую рифму, а смысл, накопленный в словосочетании и в пространстве между двумя рифмующимися словами». [3]
И уже довольно часто Пушкин рифмует не звук, а понятие. Это очень важное место для понимания сути зиновьевской поэзии.
Владимир Маяковский, один из самых любимых поэтов Александра Зиновьева, «внимает» именно голосам.
«Оригинальность», «необычайность» рифмы познается лишь в сравнении с неким установившимся стандартом (…) мышления». [3]
А вот что говорит по этому поводу сам Маяковский:
«Не обязательно уснащать стих вычурными аллитерациями, и сплошь его небывало зарифмовывать… Можно, например, полурифмовать строки, связать не лезущий в ухо глагол с другим глаголом, чтобы подвести к блестящей громкогромыхающей рифме». [4]
Мы видим, что для Маяковского «голос» имеет значение приоритетное, а вот «смысл» возникает лишь на перекрестье различных голосов, словно бегун, то попадающий в группу таких же бегунов, то отставая, а порой вырываясь вперед.
Маяковский произвел революцию рифмы: «Моя рифма почти всегда необычайна и уж во всяком случае, до меня не употреблялась, и в словаре рифм ее нет». [5]
Маяковский ввел в поэзию шутки, эпиграммы. «Он утвердил новое стихосложение – тоническое, новые небывалые гротескные и гиперболические образы, новую лексику, новую тему (…) Все это означало рождение новой системы русского стихосложения… Она утвердилась как тема революционного долга, тема наступательная, нетрадиционная, ораторская. И прежнее ощущение незаконного вторжения в поэзию с целью опровергнуть и сломать старые формы сменяется хозяйским чувством законного наследования, ощущением «главного пути». [3]
«Ритм — это основная сила, основная энергия стиха. Объяснить его нельзя, про него можно сказать только так, как говорится про магнетизм или электричество… Это виды энергии». [5]
У Маяковского ритм возникает в форме некоего бессловесного гула, а вот уже «размер получается… в результате покрытия этого ритмического гула словами…контролируемыми высшим тактом, способностями, талантом». [5]
Иными словами, по Маяковскому, ритм-гул становится стихотворением, наполнившись смыслом.
А теперь снова вернемся к Зиновьеву:
«…Поэзия тогда только прекрасна,
Когда есть что сказать, и говорится это ясно.
Когда внимаешь мыслям, а не голосам…»
Если первая строка звучит 5-стопным ямбом, то уже вторая — 7-стопным ямбом, а третий стих — это 6-стопный ямб.
Беглого взгляда на эти стихи достаточно, чтобы понять: автора совершенно не заботит гармония традиционного силлабо-тонического метра. Скорее стихи эти суть зарифмованные мысли-высказывания, в которых явственно ощущается повествовательная прозаическая интонация.
В самом деле, интонация А. Зиновьева весьма своеобразна: ясная гармония «нормального» лексического ряда, волнообразное «раскачивание» длины силлабо-тонической метрики от стиха к стиху, причем без изменения в ее метрической структуре:
«Что вам придется здесь прочесть,
Не будет для поэзии угрозой.
Вы с полным правом можете все это счесть
Хоть и рифмованной, но все же серой прозой»
И дальше:
«К чему, вы скажете, мудрить?
Без рифмы мог бы говорить.
Не спорю, ваша правда. Но
Есть обстоятельство одно.
Мы в будущее пролагаем миру путь.
Не остановит никакая нас препона.
Но вы же знаете, какая это жуть —
Частицей быть слепого гегемона.
Стих в этом случае — не поза.
Здесь слишком слабой будет проза.
А не сойду я за поэта,
Мне, честно говоря, плевать на это»
Если прислушаться, то стихи эти по своей метрике разностопные (6-, 5-, 4-стопные ямбы). По своей лексической наполненности они восходят к ораторско- разговорному стилю.
(«Я – профессиональный разговорщик», — так характеризовал себя социолог Александр Зиновьев.)
По своей фразеологии стихотворные строки составляют своеобразный ритмический «зиновьевский разговорник».
Семантическими связками элементов романа в стихах становится безупречная зиновьевская ирония, самоирония и, конечно же, юмор.
В романе все становится осмысленным. Здесь нет ни единого места, которое не было бы подчинено мысленному контексту.
Здесь рифмуются не простые лексические единицы (слова), даже не понятия, а целые мыслепредложения, мыслестроки, мыслестихи.
Мыслесистемы (в виде строф-главок), соотносясь друг с другом, образуют последовательную хронологическую цепь действия при одновременном наличии смысловых параллелей. Мыслесистемы эти, однако, выводятся в предельно простой синтаксической форме реплик «народного глашатая». Это не книжная «ученая лексика»
(1) «С ликованьем возвещает наша пресса каждый день:
(2) Жизни уровень вознесся на еще одну ступень.
(3) Руководство обещает еще выше подымать.
(4) Это что ж теперь такое с нами будет, вашу мать?!
(5) Вдруг появится селедка?!
(6) Или даже колбаса?!
(7) Ведь случались же когда-то и такие чедеса.
(8) Вдруг на водку снизят цену?!
(9) Хошь-не хошь, от пуза пей!
(10) Значит, время наступает историцких эпопей.
(11) Значит, надо нам, поэтам, за эпохой поспевать —
(12) Выдающие успехи, то есть, в рифме воспевать»
С точки зрения силлабо-тонического метра:
(1) – (4) стихи написаны 8-стопным хореем; (5), (6) стихи — это 4-стопный хорей (усечение длины метра в два раза!). (7) стих вновь обращается в 8-стопный хорей; (8) и (9) стихи снова звучат в 4-стопнике, и, наконец, (10)-(12) стихи являют собой 8-стопник.
Вот такие метрические скачки, характерные для ораторской, «трибунной» речи, с ее рваным течением мысли — то развернуто-длинным, то акцентированным, ударно-кратким.
Если Маяковский создал в поэтике резкие рифменные ряды, то Зиновьев является автором резких мысленных рядов.
Этими резкими мыслерядами, соответствующими каждой строке в романе Зиновьева, мы и станем заполнять наш новый «Зиновьевский разговорник».
Не правда ли, почти каждая строка в нем тождественна мыслеряду,— и мыслится выдохом, репликой в диспуте, фразой, произнесенной с какой-то трибуны (кафедра, теледебаты)? Или же может стать монологом гомососа на обыкновенной советской кухне.
Энергия стиха аккумулируется здесь исключительно энергией мысли. Так рождаются вербальные мыслеформы.
Уже в вышерассмотренной цитате мы видим хореическую строфику, которая недвусмысленно указывает нам на ее тяготение к фольклорно-литературному жанру, т.е. к частушке, ведь в частушке «рифма, четкий ритм, строфическое деление текста стали обычными».[6]
«Нетрадиционность частушки выражается в актуальности ее сюжетов. В ее лексике множество слов и понятий, которые изредка появляются и в эпических жанрах народной поэзии, но только в качестве забавного анахронизма. Позднего наслоения. В частушке же все атрибуты реальной жизни органичны и существенны: вокзал, паровая машина, телеграмма, пассажирочка, образованный машинист, револьверчик и т.д. — все эти новые слова и понятия свидетельствуют о живой функции частушки, о ее связи с реальным процессом жизни.
Новое содержание частушки, два слоя культуры, которые в ней сливаются, — традиционная культура старой деревни и культура города – выражаются в слиянии двух слоев русской словесной культуры.
От литературы частушка усвоила метрику и строфическое строение с разнообразным расположением рифм.
От народной поэзии в частушке остались черты параллелизма в строении образа и синтаксической структуре, характерные неточные рифмы. Постоянные словесные конструкции, эпитеты и некоторые смысловые схемы». [3]
… И все-таки частушка!
Умирание деревни. Становление города…
Таковы, на наш взгляд, скрытые истоки «частушечной» формы «зиновьевского разговорника»: крепость деревенских, крестьянских корней Зиновьева и его ранняя «городская ученость». (Десяти лет от роду он покидает родную деревню Пахтино: теперь Зиновьев — москвич, горожанин, а много позже — космополит…)
«Снится, будто заграница
Мне во сне кошмарном снится.
Будто дома просыпаюсь,
На работу собираюсь,
Второпях пихаю в рот
Не пойму с чем бутерброд»
Мотив сна во сне, по-видимому, навеян Лермонтовым, одним из любимейших поэтов Зиновьева («В полдневный жар в долине Дагестана…»).
Но в дальнейшем эта чистая литературная образность резко сбивается другой образностью — повседневности советского быта, которая и создает подспудную «фольклорную», ироническую структуру.
Как социолог, как «профессиональный разговорщик», А. Зиновьев очень последователен в форме и содержании своих стихов. Частушка по определению «социологична» — она часть народной речи, часть русской языковой просодии. Социологичность зиновьевской частушки явно прослеживается в ее строках:
«Я из тех, кому работа
Есть излишняя забота.
Кратки, мудры и крылаты
Этой сферы постулаты:
Дураков работа любит;
Лошадей работа губит;
Не пришлось бы где работать,
Лишь бы только не работать;
Лишь б для тела и души
Получать свои гроши»
Хотя роман написан от первого лица, рассказан лирическим героем по имени Иван, в его размышлениях образуется целый социологический спектр: такие мыслереплики вполне могли бы принадлежать многим, не схожим друг с другом, обыкновенным гомо-советикусам.
Не случайно лирический герой поэмы однажды весьма определенно замечает:
«Между прочим, сей рассказ
Я не выдумал для вас,
А дословно записал,
Что однажды сам слыхал.
……………………………………….
Я в одном лишь виноват:
Опускаю русский мат.
В этом самом упущенье несомненный есть эффект:
Безвозвратно пропадает выразительный эффект…»
Социологимчность «зиновьевского разговорника» — главная составляющая этой поэзии. Это новый ее вид, который естественно было бы назвать поэзией социологической (по аналогии с художественной социологической прозой Зиновьева), или же зиновьевской частушкой.
«В стаканы разлита водка.
Вмиг расхватана селедка,
Шпроты, сыр и колбаса.
Вот умолкли голоса.
Встал счастливчик во весь рост.
Начал мямлить первый тост»
Или вот еще:
«До чего ж тоскливо, братцы,
Жить в вонючей нашей буче.
Так и тянет нализаться.
Чтобы хохму отчебучить.
Из трех букв родное слово
Начертать гвоздем на стенке.
Несъедобный борщ в столовой
Слить соседу на коленки»
Что и говорить, узнаваемые советские реалии описаны четко и недвусмысленно. Сарказм проходит сквозь них не то чтобы красной нитью, — он, перефразируя Илью Кормильцева, сковывает их одной красной цепью.
И снова мы попадаем в родной Ибанск зиновьевских «Зияющих высот». В «Высотах» проза и стихи дополняли друг друга по полифоническому, акустическому принципу.
Стихотворная форма зиновьевской социологической частушки — это не только концентрат мысли, но и огромный заряд энергии, это бомба немедленного действия, где густой сарказм в отношении к социальным тенденциям резко сбивается острой самоиронией – и вот уже автопортрет становится коллективным, собирательным портретом типичного представителя гомо советикусов:
«Расстался с юностью, признаться, я с тоскою.
Зудит вопрос: а что ты есть такое,
И вышел из тебя хотя б какой-то прок?
Бородка русая,
Грошовая зарплата.
Каморка куцая,
Зато ума палата.
Гастрит
От времяпровождения.
Острит
Для самоутверждения.
Критичность к строю
В самой скромной мере.
Порыв порою
К творческой карьере.
Но вместо строк
В собранье сочинений
Сплошной поток
Вопросов и сомнений.
Автопортрета прочие детали я
Вам дорисую постепенно далее»
В этой строфе — социологический портрет типичного представителя творческой интеллигенции. А вот в других местах — это прочие «гомо советикусские разночинцы» — Аполитичные, Критиканы, Русонелюбы, Скептики, Западники и иные фигуранты, которые словно бы перекочевали в стихотворный роман Зиновьева из «Зияющих высот». И не потому, что не возникло других имен, а потому что именно эти герои характеристически выражают собой суть социологических тенденций ибанцев, их настроения, думы, их мечты и проч.
Куда бы ни опустилось перо А. Зиновьева — повсюду его образы мыслятся с заглавной буквы. Это потом имена собственные станут нарицательными, подобно тому как народной стала фраза-анекдот, подмеченная метким глазом Зиновьева при входе в воинскую ракетную часть: «наша цель — коммунизм».
Зиновьев мыслит новые культурные коды. Таковыми кодами в новейшей художественной литературе стали социологический роман, а затем и социологическая поэзия.
«Начав писать «Зияющие высоты», я решил использовать все доступные мне литературные средства именно как средства, а не как самоцель, — поэзию, прозу, анекдоты, шутки, теоретические рассуждения, публицистику, очерки, пьесу, исторические экскурсы, социологию, сатиру, трагедию, короче говоря, все, подчинив все это единой цели — цели изображения реального коммунистического общества как сложного и многостороннего социального явления. (…)
Я использовал поэзию в комбинации с прозой в таких масштабах, в каких, как мне кажется, этого еще не делал никто. Думаю, что и качество ее само по себе, если рассматривать ее как особый жанр социологической поэзии, вполне соответствует уровню моей прозы. (…) Я умышленно отказался от всякого рода «технических» поэтических изощренностей, сделав главный упор на содержание, на содержательные образы, на содержательные (интеллектуальные) средства вообще.
Живя в эмиграции, я продолжал эту линию своего творчества, насыщая стихами свои романы и сочиняя самостоятельные поэтические произведения. Так появился роман в стихах «Мой дом — моя чужбина» и поэма «Евангелие для Ивана». В обоих я следовал тем же принципам использования содержательных средств поэзии». [7]
Композиция поэтического романа А Зиновьева обладает строгой структурностью. Первая часть романа — «Мой дом» — это рассказ некоего провинциального диссидента, поэта-гомо советикуса.
Здесь, как и в «Зияющих высотах», социологические законы проговаривают через реплики героев, выражая тем самым свою диалектическую суть. Мнения декларируются, постулируется некая программа бытия, которая вдруг отрицается другой программой.
Это «единство и борьба противоположностей», это «отрицание отрицания» сквозят повсюду. Духом схоластики и диалектики пронизан весь текст первой части романа — и социологические законы, научно обоснованные константы, опять, как и в «Зияющих высотах», преподносятся здесь в художественной форме, предельно усиливаясь в метрике и рифме стихотворного текста.
Кстати сказать, рифма Зиновьева весьма своеобразна и глубока. Вот, к примеру, речь Русонелюба:
«Узнать хотите, что есть русский,
Даю вам деловой совет:
Найдите рифмы к слову «русский»,
И вы получите ответ.
Возьмем, к примеру. Эти:
ПУСКИ,
НАГРУЗКИ, вечно ПЕРЕГРУЗКИ,
Как чуть чего, так ПЕРЕТРУСКИ,
Не миновать никак КУТУЗКИ,
Пить водку надо без ЗАКУСКИ.
Само собой, границы УЗКИ.
Простые русские слова.
Но слово есть лишь образ вещи.
Обдумай этот смысл зловещий,
Покуда цела голова»
По точному замечанию О.М. Зиновьевой, А. Зиновьев, вслед за пушкинской «энциклопедией русской жизни», создает энциклопедию жизни советской, вернее сказать, дополняет ее обширный поэтико-прозаический пласт («Зияющие высоты») пластом сугубо поэтическим.
Не случайно «Мой дом — моя чужбина» охарактеризована автором не как поэма, а как роман в стихах. Зиновьев стремится подчеркнуть именно романическую составляющую рифменных рядов — ведь только в романе, с его строгой сюжетной основой, можно выразить характерные социологические константы.
И логик Зиновьев снова доказывает свои теоремы, избирая все тот же изобретенный им прием: раскладывает тезисы и антитезисы на голоса-реплики различных героев.
Если в пьесе протагонист имманентно находится в оппозиции к антагонисту — и оба они являются носителями философских идей и концепций, то можно сказать, что стихотворный роман Зиновьева в этом смысле весьма близок древнегреческой трагедии. Разница состоит лишь в том, что все зиновьевские персонажи выражают суть сталкивающихся друг с другом социологических законов, которые иногда (и довольно часто) спорят внутри главного героя романа, выражая тем самым многосоставную структуру его социологического бытия.
Вторая часть романа названа автором «Моя чужбина»…
Необходимо напомнить, что роман в стихах создавался писателем в вынужденной эмиграции, в Мюнхене, в 1982-1983 гг. Это был очень сложный период в духовной жизни Александра Александровича.
Примерно в это самое время философ и социолог работал над «Гомо советикусом», где в гротескно-сатирической форме «шпионского романа» автор представляет неминуемую экспансию коммунизма на Запад. Коммунизм покоряет Запад, а гомо советикусы под контролем недреманного ока вездесущего КГБ вершат свое лихое дело на ниве буржуазной демократии.
Одиночество Зиновьева, его оторванность от русской культуры дают о себе знать. Нерушимая твердь советского общества, на которой Зиновьев утверждает свой знаменитый категорический императив «я — суверенное государство» на Западе вдруг, словно в кошмарном сне, обращается в топкую трясину, которая подвергает разрушительной энтропии привычные для поэта социальные устои.
Не раз говорит Зиновьев о том, что именно и только в СССР он был абсолютно свободен, находясь в оппозиции к советскому социуму как уникальному социологическому явлению со всеми его тенденциями. Опираясь на структурность этого социума, Зиновьев мог постулировать свою непринадлежность к нему, свое «социальное изгойство».
Находясь в тисках капиталистической банковской системы, Зиновьев вынужден заявить, что теряет то состояние свободы, которое имел в советской России.
Недаром знаменитый образ ибанского Сортира теперь трансформируется в образ Банка!
До катастройки остается два года. 1985 год еще не настал.
«Я по улицам приевшимся брожу.
Матом лаюсь и по-русскому твержу.
Где вы, ярые советские враги?!
Жрете, сволочи-буржуи, пироги?!
Надоело подаяние просить.
Сами дайте пирога и мне вкусить!
Но пресытившийся враг, увы, молчит.
Про права про человечьи он кричит.
Про религии подъем во всю орет.
К демократии взывает, идиот!
Где ты прячешься, коварный Це Ре У?!
Что угодно тебе выдам, не совру.
Мне плевать на Колизей и Нотр-Дам.
Что попросишь, по дешевке все продам.
Где ты, мудрый и всесильный КеГеБе?!
В преисподню провалиться чтоб тебе!
Для чего ты мою душу возмутил?!
Для чего меня на Запад отпустил?!
Быть советским эмигрантом – что за честь?!
Тут отбросов и своих не перечесть.
Я не ангел ведь, а дьявол во плоти.
Дай задание любое, но плати!!!!»
Или еще:
«Страны мелькают,
Мелькают столицы.
А скука такая,
Что впору давиться.
………………………………
Откроем журнальчик вот этот. И что же? —
Советских чиновников гнусные рожи!
Теперь полистаем вот эти газеты,
И снова — советских подонков ответы!
Я ж пью здесь десятую литру вина,
Но рожа моя тут нигде не видна»
«Моя чужбина» гораздо более лирична, чем первая часть романа, которая, по существу скорее походит на привычный зиновьевский «социологический эпос», где все объективно, где действуют неопровержимые социологические законы. Абстрагировавшись, там можно изучать их с позиции объективного ученого, словно Ньютон, наблюдавший за своим падающим яблоком.
В «Чужбине» все гораздо жестче. Лирическое начало выступает здесь куда более рельефно. Эксперимент над собственной жизнью, который Зиновьев ставил всегда и везде, принял теперь форму дон-кихотовой борьбы с ветряными мельницами западнизма.
Характерные детали эмигрантского быта задаются неприкрыто и самобичующе-жестко.
Безусловно, необходимо понять, что Зиновьев, как честный художник, показывает «то, что он видит на самом деле». И если характерные детали семейного быта в «Чужбине» поднимаются здесь до художественного обобщения явления типического, то они отнюдь не отменяют в себе черт сугубо индивидуальных.
Зиновьев и здесь остается Зиновьевым. Он не боится показать неприглядное. Ему совершенно все равно, что образ становится антиэстетическим.
Для художника главное — ситуация правды, которая, по-прежнему оставаясь субъектом социологического исследования, обнажает свою щемящую лирическую природу:
«Кто мы, — хотите знать секрет?
На мой взгляните на портрет.
На Нюшку посмотрите тут же.
Она меня еще похуже.
А самый общий вывод вам
Я в заключенье преподам.
Известно: самокритика
Нам врезалась в печенки.
По принципу: смотрите-ка,
Какие мы подонки»
Да, мало кто может вот так мужественно сказать о собственном, наболевшем. Это отнюдь не эстетизация ностальгии, которую мы видим, к примеру, в одноименной картине Андрея Тарковского. Это поистине смертельная самурайская боль.
Не до гламурной эстетики, не до отвлеченных законов социальности, а конкретно-правдивый социологический срез с учетом личностного контекста:
«Как на Запад попадешь,
Всюду видишь разницу,
Как у нас и как у них
Подчищают задницу.
Там у нас доселе трут
От газет бумагою.
Не дерут, а моют тут
Ароматной влагою.
Промокают опосля
Мягкою синтетикой.
Мажут срамные места
Дорогой косметикой.
Тут и задницей поймешь:
Эта демократия
Перво-наперво нужна
Для свободы сратия»
Воистину гениальная социологическая квинтэссенция! Добавить к этому решительно нечего, ибо суть выражена предельно четко и абсолютно образно! И опять — знаменитым четырехстопным частушечным хореем «зиновьевского разговорника».
В заключение, в послесловии — картина: ошеломляющая, распахнутая, словно родная костромская земля, к которой так стремился душой поэт.
Это высокая поэзия, это непридуманные образы:
«Есть Родина-сказка.
Есть Родина-быль.
Есть бархат травы.
Есть дорожная пыль.
Есть трель соловья.
Есть зловещее «кар».
Есть радость свиданья.
Есть пьяный угар.
Есть смех колокольчиком.
Скрежетом мат.
Запах навоза.
Цветов аромат.
А мне с этим словом
Упорно одна
Щемящее сердце
Картина видна.
Унылая роща.
Густые поля.
Серые избы.
Столбы-тополя.
Бывшая церковь
С поникшим крестом.
Худая дворняга
С поджатым хвостом.
Старухи беззубые
В сером тряпье.
Безмолвные дети
В пожухлом репье.
Навстречу по пахоте
Мать босиком.
Серые пряди
Под серым платком.
Руки, что сучья.
Как щели, морщины.
И шепчутся бабы:
Глядите, мужчина!
Как вспомню, мороз
Пробирает по коже…
Но нет ничего
Той картины дороже»
ЛИТЕРАТУРА:
- Бруно Дж. Изгнание торжествующего зверя
- Бруно Дж. О бесконечности Вселенной и мирах
- Самойлов Д. Книга о русской рифме
- Маяковский В. Собр. Соч. в 13 тт., т.12
- Маяковский В. Как делать стихи?
- Бахтин В. Частушка: Сб. «Библиотека поэта»
- Зиновьев А. Исповедь отщепенца
Андрей Дмитриевич Филин — кинорежиссер, поэт, драматург.