К 150-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова
Редакция портала «Зиновьев.Инфо» впервые в интернете публикует знаменитое эссе А.А.Зиновьева «Мой Чехов». Впервые в мире публикация данного эссе состоялась на французском языке в 1989 году, а первая и единственная публикация на русском языке произошла в России, в 1992 году, в журнале «Звезда» (1992, № 8). Материал публикуется с разрешения Ольги Мироновны Зиновьевой.
Александр Зиновьев
МОЙ ЧЕХОВ[1]
ЧЕХОВ В МОЕЙ ЖИЗНИ

В литературоведении об Антоне Павловиче Чехове (1860–1904) написано так много, что можно говорить о своего рода науке – о чеховедении. Я ни в коем случае не претендую на вклад в эту науку и не считаю себя специалистом не только в чеховедении, но и в литературоведении вообще. Мое отношение к Чехову совсем иного рода. Наряду с М. Ю. Лермонтовым, М. Е. Салтыковым-Щедриным, Ф. М. Достоевским и другими русскими писателями Чехов с самого раннего детства был для меня неотъемлемым элементом моей духовной жизни, соучастником в моем понимании человеческого окружения и в моем отношении к нему. Он до сих пор остается постоянным спутником на моем жизненном пути, очень близким мне существом. Это не означает, что я был и остаюсь восторженным поклонником Чехова. Я жил с Чеховым именно как с близким существом, входящим в круг таких близких мне людей, как мои родители, братья, сестры, дети, друзья, коллеги, соратники, единомышленники. К таким людям испытываешь самые разнообразные чувства, которые меняются в зависимости от условий и со временем. Но при всех таких колебаниях неизменным остается одно – чувство близости и совместно прожитой жизни. В этой книге я хочу рассказать лишь о немногом из того, что мне довелось пережить, перечувствовать и передумать в связи с Чеховым или с его участием,– рассказать о моем Чехове.
Творчество Чехова – огромное, многостороннее и богатое всеми элементами литературы явление. Если к нему отнестись с пристрастием, то в ном можно обнаружить все то, что заранее намерен найти, и даже нечто такое, о чем не помышлял и сам писатель. В этой книге я описываю именно такое мое пристрастное отношение к нему. Перефразируя старую пословицу, что каждый понимает в меру своей испорченности, я могу сказать, что я характеризую здесь творчество Чехова в меру собственной литературной испорченности.
Поскольку эта книга не научное эссе, в ней будет полностью отсутствовать то, что называют справочным аппаратом. Я надеюсь также на то, что читатель извинит мне фактические неточности, если таковые обнаружатся, так как я писал эту книгу в основном по памяти.
Мюнхен, декабрь 1987 г.
Я КАК ЧЕХОВСКИЙ ПЕРСОНАЖ
Историческая эволюция такой огромной страны, как Россия, не есть гармоничный процесс, в котором все граждане одновременно проходят различные стадии эволюции. Хотя я родился пять лет спустя после Октябрьской революции 1917 года, мне все же довелось хотя бы короткий период и хотя бы частично прожить еще в той России, о которой писали дореволюционные писатели. От старших (в особенности – от матери) я усвоил глубокую психологическую религиозность и религиозную нравственность, которые не смогло истребить все последующее антирелигиозное образование и коммунистическое воспитание. Школьный учитель, настоявший на том, чтобы меня отправили продолжать учебу в Москву, был продолжателем идей и дел давно разгромленных и сошедших с исторической арены народовольцев-просветителей. В нашей бытовой деревенской жизни в двадцатые годы (до коллективизации) сохранялось еще так много дореволюционного, и все это так прочно въелось в память, что я до сих нор не могу читать без волнения описания дореволюционной России и смотреть дореволюционные картины и фотографии. Состояние порою бывает такое, будто я прожил целую, жизнь в той, дореволюционной, навеки ушедшей в прошлое России. Я пишу об этом здесь потому, что это сыграло свою роль в моем сближении с великими русскими писателями прошлого вообще и с Чеховым — в частности.
Я начал свою сознательную жизнь подобно персонажам из рассказов Чехова. Меня одиннадцати лет (в 1933 году) отправили из глухой русской деревушки учиться в Москву. Такая возможность возникла благодаря двум обстоятельствам. Первое из них – коллективизация, породившая сильнейшее желание крестьян любыми путями бежать в города. Одним из таких путей было устройство детей на учебу в города. Второе обстоятельство – обычаи мужчин из наших мест уходить на заработки в города, поскольку за счет одного деревенского труда прокормить семью было невозможно. Этот обычай по инерции сохранялся некоторое время и после революции. Мой дед время от времени работал в Москве, а отец осел в Москве насовсем. В деревню он приезжал лишь на короткий срок, чтобы помочь матери во время уборочных работ и дать жизнь очередному ребенку. Мать таким путем родила одиннадцать детей. Но это был далеко не самый рекордный результат – в нашем районе была семья, в которой родилось семнадцать детей. Дед и отец получили в Москве малюсенькую комнатушку площадью в десять квадратных метров в сыром подвале. К ним перебрался из деревни мой старший брат. Он женился и обзавелся двумя детьми. Потом туда переехала моя сестра, а вслед за мною – мой младший брат. Короче говоря, через несколько лет в этой малюсенькой комнатушке жило восемь человек.
Как я жил в Москве, об этом лучше не вспоминать. Хотя я приехал в Москву через шестнадцать лет после революции, которая, согласно советской пропаганде, установила самый справедливый социальный строй в истории человечества, жил я ничуть не лучше, чем дети из чеховских рассказов, принадлежавшие к низшим слоям дореволюционного русского общества. Первый раз в моей московской жизни я ел три раза в день из отдельной посуды и спал на отдельной койке лишь в тюрьме в 1939 году, когда меня арестовали за открытую критику жизни в колхозах и за выступление против культа Сталина. Когда я об этом факте рассказал в одном из интервью на Западе, куда меня выслали из страны в 1978 году, кое-кто истолковал это как прославление сталинских тюрем. А между тем я этим хотел сказать лишь следующее: каково же мне жилось на свободе, если даже тюрьма показалась мне благом!
В отличие от чеховских персонажей из низших слоев населения, я учился в замечательной школе, где я получал, может быть, самое первоклассное за всю историю России общее образование и знакомился с самыми гуманными идеями, выработанными самыми лучшими представителями рода человеческого. Это имело на таких выходцев из самых низов общества, как я, противоречивое влияние. С одной стороны, школа возвышала нас до вершин мировой культуры и гуманизма. А с другой стороны, мы с детства вынуждались сопоставлять идеи с реальностью, невольно заражаясь проблемами, которыми мучились взрослые герои чеховских произведений. Впрочем, несправедливости стали настолько обычным делом, что большинство людей вообще перестало относиться к ним как к несправедливостям. Многое из того, что вызывало моральный протест у лучших представителей дореволюционного общества, превращалось в норму обыденной жизни советского общества. Для многих миллионов людей главной стала проблема выживания в новых условиях, а для других миллионов – проблема жизненного успеха и карьеры, так что лишь для немногих одиночек, вроде меня, проблема несоответствия мрачной реальности светлым идеалам стала превращаться в главную проблему жизни.
ЧЕХОВ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ
 С сочинениями Чехова я познакомился очень рано. Сейчас не могу вспомнить, когда это произошло впервые. Кажется, что никакого первого знакомства вообще не было, так как Чехов присутствовал в нашей жизни как будто всегда. Во всяком случае, когда я одиннадцатилетним деревенским мальчишкой оказался в крохотной комнатушке в сыром подвале в Москве, я уже знал о судьбе чеховского Ваньки Жукова и писал матери в деревню письма, очень похожие на письмо Ваньки, адресованное «па деревню дедушке». Я умолял мать забрать меня обратно в деревню, обещая помогать ей работать в поле и даже соглашаясь стать подпаском (помощником пастуха).
С сочинениями Чехова я познакомился очень рано. Сейчас не могу вспомнить, когда это произошло впервые. Кажется, что никакого первого знакомства вообще не было, так как Чехов присутствовал в нашей жизни как будто всегда. Во всяком случае, когда я одиннадцатилетним деревенским мальчишкой оказался в крохотной комнатушке в сыром подвале в Москве, я уже знал о судьбе чеховского Ваньки Жукова и писал матери в деревню письма, очень похожие на письмо Ваньки, адресованное «па деревню дедушке». Я умолял мать забрать меня обратно в деревню, обещая помогать ей работать в поле и даже соглашаясь стать подпаском (помощником пастуха).
Я познакомился с сочинениями Чехова не случайно и не в силу свободного выбора, а потому что был вынужден на это условиями образования, пропаганды и культурной жизни России после Октябрьской революции 1917 года. Я просто не мог избежать знакомства с творчеством Чехова, как и других классиков русской литературы – Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Грибоедова, Тургенева, Салтыкова-Щедрина, Достоевского, Толстого и других. Мы изучали Чехова в школе, исполняли в театральных кружках, смотрели в театрах и в кино, слушали замечательные постановки по радио и в концертах. Трудно подсчитать, каким был объем творчества Чехова в культурной жизни послереволюционной России. Но думаю, что он был не меньше, чем пушкинский и толстовский. Советское литературоведение и идеология истолковывали творчество Чехова, само собой разумеется, как реалистическое и критическое описание жизни дореволюционной России. Хотя официально и признавалось, что Чехов не дошел до марксистского понимания русской действительности своего времени, однако ому прощали эту «слабость» за его критику царизма, феодализма и капитализма. Творчество Чехова стало не просто явлением в советской культуре, но сильнейшим идеологическим средством воспитания советских людей в коммунистическом духе. Принципы использования Чехова в интересах идеологической обработки населения были такими. Первый принцип: смотрите, как плохо люди жили до революции, и радуйтесь тому, что этого уже нет. Второй принцип: Чехов мечтал о светлом будущем общества, в котором все люди будут счастливы, в котором исчезнут все язвы феодализма и капитализма, и чеховская мечта воплотилась в реальность благодаря социалистической революции.
Правда, отдельные советские писатели описывали послереволюционную, советскую реальность в чеховском духе. Это, например, М. Зощенко, Ю. Олеша, И. Ильф и Е. Петров. Но описываемые ими явления рассматривались лишь как пережитки прошлого. И никому в голову не приходила мысль о том, что чеховское изображение жизни с полным основанием может быть распространено и на явления советского общества и советского образа жизни, причем – не как на пережитки прошлого, а как на явления, с необходимостью порождаемые самим коммунистическим социальным строем страны, сложившимся после революции. Советские власти, идеологи, литературоведы и учителя не допускали даже мысли о том, что классическая русская литература в ее советской интерпретации может способствовать развитию у людей критического отношения к самой советской реальности. А между тем мы видели вокруг себя постоянно и повсюду бесчисленные реальные варианты литературных героев Грибоедова, Гоголя, Салтыкова-Щедрина и Чехова. Всякого рода «унтеры Пришибеевы», «хамелеоны», «человеки в футляре» попадались нам на каждом шагу. И многие из нас осмысливали советскую реальность в литературных образах русской литературы критического реализма. Как говорится, палка о двух концах. Воспитывая нас в коммунистическом духе на материале русской классической литературы, советская школа и пропаганда невольно сеяли в нас семена критического отношения к новому общественному устройству. Судьба была к нам неблагосклонна. Подавляющее большинство представителей моего поколения погибло на фронтах войны и в сталинских лагерях. Уцелели единицы, да и то с искалеченными судьбами и душами.
ПЕРВЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОПЫТЫ
Тридцатые годы в России были, может быть, самыми мрачными и, одновременно, самыми светлыми в истории России. Самыми мрачными по реальности и самыми светлыми по иллюзиям. И особенно поразительным явлением этих лет была школа, по крайней мере – в больших городах. В школе, в которой я учился, особенно хорошо преподавали литературу и математику. Мною завладела страсть к обеим из них. И это сглаживало убожество быта. Увлечение литературой было повальным. Когда мне было лет пятнадцать, я сделал попытку сочинять рассказы. Один из первых рассказов я сочинил явно под влиянием чеховского рассказа «Ванька» о деревенском мальчике, посланном в город в услужение чужим людям. Мой рассказ был о том, как я жил в Москве в первое время в 1933 году. Но рассказ получился апологетическим: я написал в нем, что советские люди, советская школа, особенно – комсомольская и пионерская организации позаботились о моем герое. Учительница литературы похвалила рассказ. Но потом кто-то усмотрел в нем крамолу. Сейчас я предполагаю, что крамола заключалась именно в апологетике, невольно обнаружившей жуткие условия жизни моего героя.
Должен заметить, что среди тех людей, с которыми мне приходилось сталкиваться в детстве и юности, было немало таких, кто не имел никаких иллюзий относительно земного коммунистического рая и не верил в марксистские сказки. Мне довольно часто приходилось слышать ядовитые шутки и анекдоты о реальной жизни и о вождях, включая самого Сталина. В частности, уже в конце тридцатых годов я слышал такой анекдот: «На колхозном собрании обсуждались два вопроса: 1) строительство сарая; 2) строительство коммунизма. За неимением досок для сарая решили сразу перейти ко второму вопросу».
Очевидно, юмористическое и сатирическое отношение к своей жизни органически присуще народу. Думаю, что и чеховский юмор и сатира возникли не на пустом месте.
В 1938 году, когда мне было шестнадцать лет, я сочинил рассказ на основе конкретной истории, случившейся в доме по соседству с нашим. Рассказ я написал, как мне тогда казалось, также в чеховском духе. Его, как и многое другое, что я сочинял в те годы, сохранил мой школьный друг. Он разделял мое критическое отношение к советской реальности, начавшее отчетливо складываться в эти годы, сам писал сатирические стихи. Наше литературное творчество было нашей великой тайной. В 1946 году я уничтожил все мои рукописи в ожидании обыска и ареста. Ниже я приведу этот рассказ лишь с сокращениями и в том виде, в каком я припоминаю его сейчас.
МЕЧТЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Колька живет в городе лишь второй год. До этого его семья жила в деревне – в колхозе. Что это за жизнь, лучше об этом не вспоминать. Когда в деревне стали набирать рабочих на строящийся в городе завод, отец Кольки сразу же завербовался. Бросив все хозяйство и захватив лишь кое-какое тряпье, родители Кольки с детьми в первую же ночь уехали в город на товарном поезде – боялись, что начальство передумает и их навеки похоронят в колхозе.
Семья Кольки просыпается утром очень рано. Отец должен идти на работу. Его завод расположен довольно далеко от общежития, где живут Ивановы. Транспорта нет никакого, приходится ходить на работу пешком. Мать должна приготовить отцу что-то поесть и бежать занять очередь за продуктами в магазине. Колька с братом должны до школы сбегать в булочную и за керосином. Кроме того, в общежитии чуть свет поднимается такой гвалт, что спать все равно невозможно. Семья Ивановых занимает маленький кусочек большого деревянного барака, отделенный от прочих семей тряпками и фанерой. На фанерной стенке висят портреты Ленина и Сталина, а на тряпичной – фотографии отца, матери, дедов и бабок. Кроме Ивановых в бараке живут еще двадцать семей. В «квартире» Ивановых помещается железная койка, на которой спят родители и сестренка, тумбочка и стол. Брат Кольки спит на столе, а сам Колька – под столом. Отец Кольки – ударник на заводе, недавно вступил в партию. Так что семья Ивановых стоит первой в очереди на улучшение жилищных условий: им обещают отдельную комнату в настоящем, кирпичном доме. Комната целых десять квадратных метров! Колька с братом будут спать тоже на койке. И шкаф для одежды можно будет купить! И уроки можно будет делать, сидя за столом на настоящем стуле! Вот это будет жизнь!
Съев свою порцию черного хлеба и запив его чуть-чуть сладковатым и почти бесцветным чаем, Колька с братом отправился в школу. Школу он любит и учится прилежно. Он мечтает поступить в техникум и стать механиком. В школе светло и чисто. Иногда кино бесплатно показывают. Колька особенно любит фильмы про революцию, гражданскую войну, Ленина и Сталина. Детям дают в школе обед – ложку синего картофельного пюре, котлетку со смутным запахом мяса и кружку молока, наполовину разбавленного водой. Но для вечно голодных ребятишек и такой обед является праздником. Учителя обещают в скором времени наладить такую жизнь, что все люди будут сыты и одеты, все будут спать на отдельных койках и даже с простынями, каждую неделю будут показывать кино… Короче говоря, будет не жизнь, а настоящий рай. Кольке это интересно слушать. Он верит в эти рассказы о будущем коммунистическом обществе. Правда, он немного сомневается насчет простыней. Сколько же это нужно мануфактуры, чтобы все спали на простынях?! Ну, да дело не в простынях. И без них спать можно. Лишь бы было где. И лишь бы тепло было. В деревне они вообще спали на голых досках на полатях. Хорошо было! Только одно плохо было – клопы кусались. Учитель истории сказал, что при полном коммунизме клопов не будет. В этом Колька тоже сомневается…
В этот день после уроков всех учеников собрали в зале. И учителей тоже. На сцену поднялся сам директор и рассказал о разоблачении очередной группы врагов народа.
Дома в бараке стояла непривычная тишина. Женщины вернулись домой из магазинов с пустыми сумками. Оказывается, враги народа специально срывали снабжение города продуктами, подсыпали в масло и в муку битые стекла и отравляющие вещества. Но теперь их разоблачили, и скоро будет все хорошо. А пока придется потерпеть. Такое объяснение люди слышали не в первый раз. Но все боялись сказать лишнее слово. В прошлом году одна женщина в бараке сказала сдуру, когда исчезли керосин и соль, что враги народа пьют соленый керосин, так ее и ее мужа арестовали, а детей отправили в колонию для малолетних преступников. Так что лучше помалкивать. Хорошо еще, картошкой запаслись, перетерпим!
Отец пришел с работы позже обычного – задержался на экстренном партийном собрании. Колька сделал вид, что спит, а сам прислушивался к тому, о чем шептались родители. Колька понял, что отца вызвали в партийное бюро и поручили разоблачить врага народа, скрывавшегося под личиной главного инженера их цеха.
– Кто бы мог подумать,– шептал отец,– что он окажется врагом! Старый коммунист с дореволюционным стажем! Герой гражданской войны! Это – большая честь, что мне доверили разоблачить его как бывшего агента охранки и троцкиста. Секретарь партбюро пообещал комнату, которая освободится после ареста инженера, отдать нам. В месткоме обещали ордер на мануфактуру, целых пять метров! Себе и Катьке платье сошьешь. Может, Кольке на рубашку останется. Завтра митинг на заводе. Всей семьей пойдем.
Наконец-то Колька заснул. Заснул счастливым оттого, что ему сошьют новую рубашку, что они скоро получат отдельную комнату в каменном доме, что завтра будет митинг – все будут нарядные, музыка будет греметь. Заснул с гордостью за своего отца, ударника труда и настоящего коммуниста.Вскоре Колькина семья переехала в настоящий каменный дом, в комнату, где раньше жил разоблаченный враг народа. Какая же это была радость! Все ребята в школе и во дворе смотрели на Кольку как на героя – будто это он сам разоблачил врага. Колькиного отца выдвинули на руководящую работу в цехе: тогда такие «выдвиженцы» были обычным делом. Но у него не было ни опыта работы, ни образования. И цех стал работать еще хуже, чем раньше. Колькиного отца тоже разоблачили как врага народа и арестовали. Колькину мать с детьми выселили из отдельной комнаты в настоящем, каменном доме и выслали далеко в Сибирь.
ЛИТЕРАТУРНАЯ ТРАДИЦИЯ
Литературная традиция – явление чрезвычайно неопределенное даже в тех случаях, когда преемственность кажется очевидной. Она не всегда и не обязательно есть результат влияния одних писателей на других. Она возникает прежде всего благодаря тому, что в самой жизни, дающей материал для литературы, имеется нечто устойчивое, сохраняющееся во времени. Очевидно, чеховское видение действительности складывалось у меня на первых порах бессознательно под влиянием того, что мне приходилось видеть вокруг, и лишь во вторую очередь под влиянием того, что я читал.В том же, 1938 году я писал сочинение о творчестве Чехова. Тема сочинения была свободная. Все ученики писали шаблонные сочинения в духе идеологического приспособления Чехова к интересам советской пропаганды. Я же решил «пооригинальничать», как потом сказала учительница. Честно говоря, я никогда не стремился к оригинальности. У меня всегда получалось как-то так, что я помимо воли выпадал из нормы. Очень часто меня даже выталкивали на это другие. Я выбрал в качестве темы один рассказ Чехова, который незадолго до этого слушал по радио в превосходном исполнении артиста, имя которого сейчас уже не помню. Рассказ назывался «Пережитое». Он был написан Чеховым, когда ему было всего двадцать два года. Впрочем, юный возраст писателя меня тогда не удивлял. В русской литературе это было обычным явлением. Лермонтов уже в мальчишеском возрасте достиг такого уровня мудрости, какого не достигает большинство писателей даже в преклонном возрасте. Сюжет чеховского рассказа таков. Чиновники одного учреждения ставят свои подписи на присутственном листе по поводу нового года. Обычно чиновники подписываются на всякого рода бумагах с «росчерками, подчерками, закорючками, хвостиками» (слова из рассказа), А тут все расписались аккуратно, «все буквы кругленькие, ровненькие, гладенькие, точно розовые щечки». Когда один из чиновников аккуратно поставил свою подпись, другой чиновник сказал ему, что может легко погубить его, поставив около его подписи закорючку или кляксу. Первый чиновник пришел от этой угрозы в ужас, так как этот, казалось бы, пустяк мог действительно испортить его карьеру, как это произошло с тем его сослуживцем, который угрожал ему.
 Пересказав кратко содержание рассказа, я затем написал, что рассказ, по моему мнению, не доведен до логического конца. Лично я закончил бы его тем, что жертва угрозы сама ставит закорючку у подписи того, кто угрожал ей. Пакость, которую ты можешь сделать другим, другие могут сделать тебе самому,– сделал я вывод в заключение. Мое сочинение стало предметом обсуждения на особом комсомольском собрании, которое осудило меня за непонимание того, что правило, которое я написал в конце сочинения, действует в обществе с антагонистическими классами, а что в нашем социалистическом обществе действует закон взаимопомощи и дружбы. Меня спасло лишь то, что я отнес свой вывод к дореволюционной России, но забыл подчеркнуть это.
Пересказав кратко содержание рассказа, я затем написал, что рассказ, по моему мнению, не доведен до логического конца. Лично я закончил бы его тем, что жертва угрозы сама ставит закорючку у подписи того, кто угрожал ей. Пакость, которую ты можешь сделать другим, другие могут сделать тебе самому,– сделал я вывод в заключение. Мое сочинение стало предметом обсуждения на особом комсомольском собрании, которое осудило меня за непонимание того, что правило, которое я написал в конце сочинения, действует в обществе с антагонистическими классами, а что в нашем социалистическом обществе действует закон взаимопомощи и дружбы. Меня спасло лишь то, что я отнес свой вывод к дореволюционной России, но забыл подчеркнуть это.
Прошло несколько лет, и я узнал, что «открытое» мною при чтении Чехова правило старо, как мир, что оно было сформулировано уже в Библии. Прошли еще годы, и я установил для себя, что наше советское общество не есть исключение из этого правила, а наоборот – в нем оно действует с особой силой. Я выяснил для себя, что это правило есть одно из правил именно коммунистических социальных отношений, существовавших в более или менее развитых человеческих объединениях всегда, по ставших господствующими отношениями лишь в нашем, социалистическом (или коммунистическом) обществе.
Есть общие законы человеческих отношений. И есть конкретные формы проявления этих законов. Вторые изменяются в связи с изменением условий жизни людей. Первые же сохраняются при всех меняющихся обстоятельствах. Чиновники в советских учреждениях не расписываются в присутственных листах по поводу праздников. Но пакости друг другу они делают не меньше, а побольше, чем чеховские герои. Законы их поведения остались теми же. Они лишь приняли другие, еще более изощренные и более замаскированные формы. Люди делают пакости друг другу, прикрываясь заботой о ближнем, о коллективе, о всей стране, о всем прогрессивном человечестве. Советский интеллигентский фольклор отразил это в бесчисленных анекдотах и шутках. Приведу лишь две в качестве примера:
если при капитализме человек человеку – волк, то при коммунизме – товарищ волк;
порядочный человек отличается от подлеца лишь тем, что делает подлости по отношению к ближним, не испытывая от этого удовольствия.
Вспоминаю защиту одной кандидатской диссертации по философии. Диссертация была написана вполне прилично. Официальные оппоненты дали положительные отзывы. Но вот выступил один из присутствовавших на защите сотрудников института, который ненавидел диссертанта и завидовал ему. Все ожидали, что он будет критиковать диссертацию, и знали заранее, что диссертант легко разгромит своего неофициального оппонента. Но произошло непредвиденное. Этот человек начал хвалить диссертацию. Но как! Из его слов получалось, что диссертант внес огромный вклад в сокровищницу идей марксизма-ленинизма, что за такую диссертацию следует сразу присудить степень доктора наук, а не кандидата, что ее надо немедленно опубликовать на всех западных языках. В результате тайным голосованием диссертацию провалили, диссертанта не оставили на работе в институте, и он зачах где-то в провинции. Чехов был удивительно прав: «Как мало нужно для того, чтобы сковырнуть человека!»
Короче говоря, мое увлечение определенными фигурами в русской классической литературе, включая Лермонтова, Салтыкова-Щедрина и Чехова, имело глубокую причину в моем увлечении явлениями в жизни людей, в той или иной форме отразившимися в их произведениях. В русской послереволюционной жизни сохранилось и расцвело пышным цветом многое такое, что давало пищу для классической русской литературы. И если писатель имел целью правдивое описание советской реальности, он с необходимостью вынуждался на продолжение традиций русской классической литературы.
Я вовсе не хочу модернизировать Чехова и изображать его писателем коммунистического общества. Я лишь хочу обратить внимание на то, что явления общественной жизни, которые были главным объектом творчества Чехова, не только не исчезли в послереволюционной России, но, наоборот, стали тут доминирующими и всеобъемлющими. Вот что писал по этому поводу великий русский певец Ф. И. Шаляпин в книге «Маска и душа»: «В большевизм влилось целиком все жуткое российское мещанство с его нестерпимой узостью и тупой самоуверенностью. И не только мещанство, а вообще весь русский быт со всем, что в нем накопилось отрицательного. Кажется, это был генеральный смотр всем персонажам всей обличительной и сатирической литературы от Фонвизина до Зощенко». Не случайно поэтому имена литературных героев русских дореволюционных писателей, и Чехова – в особенности, стали именами нарицательными даже в официальном газетном и партийном советском лексиконе.
ПОПЫТКА СТАТЬ ПИСАТЕЛЕМ
В 1939 году я был исключен из комсомола и из института за «антисоветские» и антисталинские высказывания, был направлен в психиатрическую больницу для обследования и, будучи признан психически здоровым, был арестован и доставлен на «Лубянку». После нескольких дней допросов меня решили перевести в какое-то другое место. По пути случилась какая-то неразбериха. Я на несколько минут остался без конвоя. Не думая о последствиях, я просто ушел от моих конвоиров. Начался период странствования по стране. К счастью, он оказался коротким. ,Осенью 1940 года я сумел поступить добровольцем в армию.
За годы службы в армии (а они включили в себя и годы войны) я сильно изменился психологически. Я обнаружил в себе способности шутника и балагура и дал им полную волю. Я регулярно делал стенные газеты – «Боевые листки», нарисовав для них бесчисленные карикатуры и написав бесчисленные сатирические стихи и фельетоны. Я вел бесшабашный («гусарский») образ жизни, нисколько не заботясь о самосохранении и карьере, разбазаривая на всякие пустяки способности и силы. Это объясняется тем, что не было никакой надежды выжить и тем более не было надежды использовать свои способности в обычной жизни. Однако это состояние оказалось временным и довольно поверхностным. Как только окончилась война, мое прежнее отношение к жизни снова заявило о себе. Я обнаружил, что оно даже еще более укрепилось. Я решил отказаться от военной карьеры и обратиться к литературе. Материал для писания был накоплен в изобилии. У меня выработался мой собственный стиль мышления и речи. В 1945–1946 годах я написал довольно много стихов и прозы. Особую надежду я возлагал на повесть, которую писал, как это ни странно, со смутной надеждой на то, что ее удастся напечатать. Мне тогда казалось, что обстановка в стране должна будет радикально измениться к лучшему. Я ошибся лишь во времени прихода будущей «оттепели». Ушло еще семь лет, в которые сталинизм сделал попытку остановить ход истории и в которые были искалечены судьбы еще многих миллионов людей.
В 1946 году я демобилизовался из армии и вернулся в Москву. Мои сослуживцы по полку вернулись в Россию с чемоданами, набитыми трофейными вещами. Я вернулся с одним потрепанным чемоданом, набитым рукописями: я собирался стать писателем. Я показал свою повесть двум писателям – Константину Симонову и другому, имя которого не буду называть, дабы не тревожить его память запоздалым упреком. Симонов повесть похвалил, но посоветовал уничтожить, если я хочу уцелеть. Но он, по крайней мере, не донес на меня, что само по себе было большим добром в то время. Другой же писатель сообщил о моем «антисоветском памфлете» (это – его определение) в органы государственной безопасности. К счастью для меня, он вернул мне рукопись. Когда через несколько дней ко мне явились с обыском, я успел уничтожить все мои рукописи, последовав доброму совету К. Симонова. Моя писательская карьера закончилась, не начавшись. Тогда мне казалось, что я покончил с литературой раз и навсегда. Прошло тридцать лех, прежде чем я решился опубликовать мое первое литературное произведение «Зияющие высоты» (1976), причем – опубликовать на Западе.
Повесть, о которой я говорил выше, я частично восстановил в памяти, уже находясь в эмиграции, и опубликовал в книге «Нашей юности полет» под названием «Повесть о предательстве».
ТРИДЦАТИЛЕТНЯЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ «ПАУЗА»
Моя вынужденная «пауза» вовсе не означала, что я насовсем отошел от литературы. В Советском Союзе в послевоенное время возникло очень своеобразное устное литературное творчество. Появились многочисленные сочинители и рассказчики шуток, анекдотов, коротких историй. Я стал одним из них. Кроме того, я регулярно сочинял шутки, сатирические стихи и фельетоны для стенных газет. В эти годы время от времени появлялись нелегальные литературные кружки. Участники этих кружков читали в них свои сочинения и обсуждали различные литературные проблемы, которые обычно были маскировкой для обсуждения проблем социальных, политических и идеологических. Я принимал участие в одном из таких кружков. Наконец, я широко практиковал литературные импровизации в моих уроках в школе, где я преподавал логику и психологию, в лекциях в различных институтах и в университете, в публичных выступлениях и даже в пропагандистских лекциях, которые мне приходилось читать в порядке так называемой «общественной работы». В те годы я сочинял в большом количестве всякого рода рассказики («историйки», «байки»), в большинстве случаев бывшие литературной обработкой реальных событий. Моей «узкой специальностью» при этом были насмешки над коммунистическим социальным строем, представителями власти и марксизмом-ленинизмом. Обычно я «обыгрывал» марксистские изречения или реальные истории, связанные с преподаванием марксизма. Например, марксистским идеям насчет эксплуатации человека человеком я придал такой вид: при капитализме один человек эксплуатирует другого, а при коммунизме – наоборот. Марксистскому определению производственных отношений я придал такой вид: производственные отношения суть отношения между людьми в процессе их производства. Многочисленные шутки, каламбуры и рассказы такого рода, сочиненные мною во время тридцатилетней «паузы», вошли в мои книги, напечатанные на Западе. Если бы условия для литературы в Советском Союзе были хотя бы наполовину такими, как до революции, то весьма возможно, что я стал бы писателем-сатириком задолго до 1976 года. Ниже я приведу в качестве примера несколько моих философски-социологических рассказиков тех времен.
До революции для действия по поглощению пищи употребляли три различных слова – «кушать», «есть» и «жрать». Причем кушали дворяне, ели капиталисты, а жрали трудящиеся. После революции эксплуататорские классы были уничтожены и к власти пришли трудящиеся. И хотя с едой стало очень плохо, зато трудящиеся поднялись на высший языковой уровень: стали кушать. Хотя и помои, но все же кушать. И даже о животных стали говорить, что они кушают. Один преподаватель университета, доказывая нам всемогущество диалектики, ссылался, само собой разумеется, на Ленина. «Чему учил нас великий Ленин? – задавал он нам риторический вопрос – Возьмите самое простое предложение, учил нас Владимир Ильич, например – «Лошади кушают овес», и вы откроете в нем все элементы диалектики». Эти лошади, кушающие овес, так прочно врезались нам в память, что заслонили собою все элементы диалектики. Один аспирант из азиатской республики (впоследствии он стал академиком), сдавая кандидатский экзамен по философии, так и назвал в качестве первой особенности диалектики то, что она, диалектика, кушает овес.
На философском факультете университета я вел отдел сатиры и юмора в стенгазете. Однажды я обыграл для этой цели солнечное затмение, случившееся в то время,– нарисовал много карикатур и сочинил к ним стихи. Я написал также фельетон, который, однако, запретили. Фельетон был написан явно в стиле чеховского рассказа «Затмение луны». Привожу его здесь по памяти и с сокращениями.
В СВЕТЕ СОЛНЕЧНОГО ЗАТМЕНИЯ
Хотя солнечное затмение продолжалось недолго, за это время на факультете произошли серьезные события. Ассистент кафедры научного коммунизма совратил студентку первого курса. У преподавательницы немецкого языка украли сумку с деньгами. На двери деканата написали ругательство. В медицинском институте, расположенном рядом с факультетом, украли руку и засунули ее в портфель доцента по критике реакционной западно-европейской философии. Короче говоря, случилось многое такое, вследствие чего пришлось устраивать общее собрание факультета. На собрании с обстоятельным докладом выступил секретарь партийного бюро. «Советские трудящиеся,– сказал он,– провели очередное солнечное затмение организованно и с чувством глубокой ответственности. Но в свете солнечного затмения обнаружились отдельные теневые стороны в воспитании подрастающих поколений. В нашем здоровом коллективе обнаружились отдельные неустойчивые в морально-политическом отношении элементы, которые злоупотребили…» Когда разбиралось персональное дело безнравственного ассистента кафедры научного коммунизма, выяснилось следующее, усугубившее его вину обстоятельство: он не знал, что в этот момент «в стране осуществлялось столь важное мероприятие». И ему объявили выговор по партийной линии за то, что он не читал газет. Доцент, занимавшийся критикой реакционной буржуазной философии, очень гордился тем, что ему засунули в портфель руку, предназначенную для практических занятий студентов медицинского института. Это было самое сильное переживание в его жизни.
КУХАРКА И ГОСУДАРСТВО
Наша университетская агитационная бригада ездила по деревням Московской области с концертами самодеятельности и, само собой разумеется, с пропагандистскими лекциями. Давали мы концерты и москвичам, работавшим в деревнях на уборочных работах. Перед концертом была лекция, связанная с каким-то решением ЦК КПСС. По ходу лекции лектор привел слова Ленина о том, что при коммунизме кухарки будут управлять государством. Наступила зловещая тишина. Все присутствовавшие повернулись в сторону полной розовощекой женщины. Потом мы узнали, что она была поварихой (т. е. кухаркой) в их бригаде и вела себя так, как в таких случаях и ведут себя нормальные советские люди, т. е. воровала, заводила блат, фальсифицировала и без того плохую еду. Кто-то в зале сказал, что если государством будут управлять кухарки, то все мы с голоду помрем. Начался смех и галдеж. Но вороватая повариха не растерялась. «Успокойтесь,– спокойно сказала она,– при коммунизме государство отомрет, так что даже и управлять будет нечем».
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
Как я уже сказал выше, в годы литературной «паузы» я выработал свою социологическую концепцию коммунистического общества. Ниже я поясню один ее аспект, важный для моего понимания творчества Чехова.
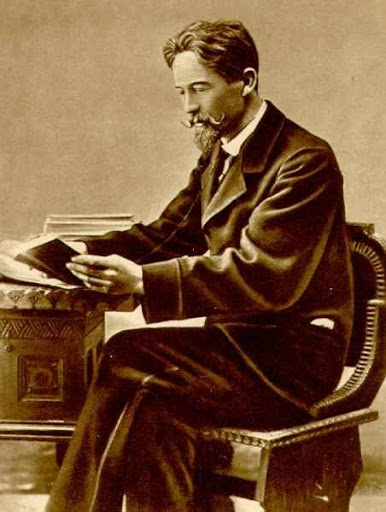 Одна из догм марксизма-ленинизма гласит, будто коммунистические (социалистические) социальные отношения не складываются в обществе до коммунистической (социалистической) революции, будто они возникают лишь после революции и благодаря революции. Это утверждение, насколько мне известно, никем не оспаривается. А между тем оно ложно. Коммунистические социальные отношения имели место в той или иной мере во всех больших объединениях людей, существовавших достаточно длительное время в прошлой истории человечества. Они имеют место в наше время также и в некоммунистических странах Запада. В России в результате революции сложились условия, благодаря которым общечеловеческие коммунистические социальные отношения стали господствующими и всеобъемлющими. Характерным признаком этих отношений является то, что все взрослые и работоспособные граждане превращаются в своего рода служащих государства, и отношения между начальниками и подчиненными, а также отношения между сослуживцами, соподчиненными одному и тому же начальству, становятся самыми фундаментальными отношениями между людьми – становятся базисом общества. В обществе складывается сложнейшая иерархия людей и учреждений, находящихся в отношении субординации (начальствования и подчинения) и координации (соподчинения). На этой основе развивается беспрецедентная в истории система власти и управления, в которую оказываются вовлеченными многие десятки миллионов людей. Десятки миллионов всякого рода начальников, руководителей, заведующих, директоров, председателей и т. д. становятся господами положения, навязывая всему обществу свою идеологию и психологию, свое отношение ко всем аспектам общественной жизни.
Одна из догм марксизма-ленинизма гласит, будто коммунистические (социалистические) социальные отношения не складываются в обществе до коммунистической (социалистической) революции, будто они возникают лишь после революции и благодаря революции. Это утверждение, насколько мне известно, никем не оспаривается. А между тем оно ложно. Коммунистические социальные отношения имели место в той или иной мере во всех больших объединениях людей, существовавших достаточно длительное время в прошлой истории человечества. Они имеют место в наше время также и в некоммунистических странах Запада. В России в результате революции сложились условия, благодаря которым общечеловеческие коммунистические социальные отношения стали господствующими и всеобъемлющими. Характерным признаком этих отношений является то, что все взрослые и работоспособные граждане превращаются в своего рода служащих государства, и отношения между начальниками и подчиненными, а также отношения между сослуживцами, соподчиненными одному и тому же начальству, становятся самыми фундаментальными отношениями между людьми – становятся базисом общества. В обществе складывается сложнейшая иерархия людей и учреждений, находящихся в отношении субординации (начальствования и подчинения) и координации (соподчинения). На этой основе развивается беспрецедентная в истории система власти и управления, в которую оказываются вовлеченными многие десятки миллионов людей. Десятки миллионов всякого рода начальников, руководителей, заведующих, директоров, председателей и т. д. становятся господами положения, навязывая всему обществу свою идеологию и психологию, свое отношение ко всем аспектам общественной жизни.
Чехов жил и писал в эпоху, когда в России происходило крушение феодально-дворянского социального строя и формирование капиталистических социальных отношений. Но одновременно происходил процесс роста социальных отношений, которые участниками жизненного процесса того времени не воспринимались как основа социальных отношений будущего коммунистического общества, а именно – чиновничьи отношения, т. е. отношения людей к грандиозному государственному аппарату России и отношения людей внутри самого этого аппарата. Чиновничье-бюрократический аппарат стал стремительно складываться в России уже в годы Ивана Грозного. При Петре Великом он стал конституироваться формально. Ко времени жизни Чехова он стал третьей основной социальной силой в стране наряду с помещиками и капиталистами.
Социальная ситуация в России в чеховские годы была чрезвычайно сложной и неопределенной. Помещичьи (дворянско-феодальные) отношения доживали последние годы и навеки уходили в прошлое. Капиталистические отношения еще не были достаточно развитыми и сильными, чтобы стать безраздельными господами общества. Чиновничьи отношения хотя и влияли на все аспекты жизни страны, еще не подозревали, что будущее принадлежит им. Чиновничество еще в значительной мере пополнялось выходцами из дворянства, испытывало огромное влияние отношений капиталистических и не осознавало себя в качество самостоятельной силы. Зло, проистекавшее из феодализма, было очевидно всем. Зло, порождаемое растущим капитализмом, было очевидно по крайней мере многим мыслящим и образованным людям России. Зло, специфически порождаемое чиновничьими социальными отношениями, не выделялось из общей массы зла и не отличалось от прочих видов зла как нечто такое, что имеет свои собственные корни, независимые от отношений частной собственности. Критика российских условий жизни была направлена в основном против умиравшего феодализма и нарождавшегося капитализма, но не против социальных отношений будущего коммунистического (или социалистического) общества.
В результате Октябрьской революции 1917 года в России были ликвидированы классы частных собственников – исчезли феодальные и капиталистические отношения, считавшиеся источником всех зол. Была разрушена также вся система власти и управления царизма. Но на месте разрушенного государственного аппарата царизма возник государственный аппарат, который превзошел его как по масштабам, так и по роли в обществе.
И полный простор получили социальные отношения, которые ранее были перемешаны и слитны с отношениями феодализма и капитализма, не выделялись в качестве социальных отношений особого рода – отношений коммунистических (социалистических, коммунальных, коллективистских). Сложился новый образ жизни, являющийся прямым продолжением и развитием коммунистических феноменов дореволюционной России. На новой основе воспроизвелись и умножились человеческие типы, отношения между ними и их формы поведения, которые были главным объектом литературного творчества Чехова.
Бесспорно, в жизни постоянно происходят изменения. Исчезают одни категории людей и появляются другие. Люди иначе одеваются и иначе говорят, чем их предшественники. Меняются их бытовые условия. Меняются темы их разговоров. Меняется вид улиц и их названия. Короче говоря, происходят такие перемены, что новым поколениям кажется, будто вообще все, пережитое их предшественниками, навечно уходит в прошлое, а их жизнь являет собою нечто совершенно новое. Но не зря великие мудрецы прошлого утверждали, что «ничто не ново под Луной», что «новое есть лишь хорошо забытое старое». В человеческой жизни есть нечто такое, что сохраняется и воспроизводится, несмотря ни на какие видимые изменения. Великие писатели, описывая видимые ими и исторически преходящие явления, так или иначе проникают в их непреходящую сущность.
Я изучал советское общество не по сочинениям классиков русской литературы, а путем непосредственного его наблюдения. Я обратился вновь к их сочинениям, поскольку все важнейшие «общечеловеческие» проблемы, поставленные ими, воспроизвелись передо мною, как и перед многими русскими мыслящими людьми, с новой силой и в новой форме. Среди этих проблем «чеховские» проблемы оказались центральными.
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЛИТЕРАТУРЕ
В течение моей литературной «паузы» все мое время и все мои силы отнимали научная работа и преподавание. Однако все эти годы я жил с подсознанием потенциального писателя и не терял смутной надежды на возможность реализоваться в будущем. Так оно и случилось. В начале семидесятых годов началась яростная кампания в среде моих коллег против меня. Была разгромлена моя логическая группа. Было запрещено печатать мои логические работы. Я потерял студентов и аспирантов. Но, как говорится, нет худа без добра. У меня впервые за многие годы освободилось время, которое я мог использовать для литературной работы. У меня накопился опыт публикации моих работ на Западе без ведома начальства. Я был хорошо известен на Западе как ученый и философ, и это давало мне некоторую защиту от преследований. Нелегальный литературный подъем был еще в разгаре. Короче говоря, обстоятельства сложились так, что я получил неповторимую возможность попробовать реализоваться в качестве писателя.
Я уже писал об истории появления «Зияющих высот» и не хочу здесь повторяться (см., например, мою книгу «Без иллюзий»). Отмечу здесь только то, что я должен был писать максимально быстро, иначе КГБ опередило бы меня и книга не увидела бы свет. Я написал ее в общей сложности за полгода. При этом не имел возможности исправлять написанное. Книга, по общему признанию прессы, получилась необычная. Ей не нашли места в литературной классификации, хотя меня и сравнивали с различными писателями прошлого. Сравнивали и с русскими писателями, главным образом – с Салтыковым-Щедриным. Тот факт, что такая литературная форма явилась результатом необычной личной судьбы автора, как-то выпал из поля внимания. И что удивительно, критики не заметили, что если уж сравнивать меня с писателями прошлого, то ближе всех ко мне мог бы быть Чехов.
После выхода в свет «Зияющих высот» (1976) меня спрашивали о том, к какой литературной традиции я себя отношу. И я обычно отвечал: ни к какой. Этот ответ имел известное оправдание. Для писателя важно бывает иногда отстоять свою оригинальность. А я ко всему прочему на самом деле пришел в литературу уже зрелым человеком, пришел извне литературы, имея -за плечами несколько десятков лет научной работы в области философии, логики и социологии. Теперь же, глядя на свое творчество отдаленно и как бы со стороны, я отнес бы себя именно к щедринско-чеховскому направлению в русской литературе, которое некоторые литературоведы называют социологическим реализмом. Думаю, что это название соответствует сути этого направления, а именно – его ориентации на объективные социальные отношения между людьми и на обусловленность всех прочих важных явлений человеческой жизни этими отношениями, а также изображение самих людей как своего рода функций в системе этих отношений.
Думаю также, что я довел это направление в литературе до логического конца, придав ему вид сознательной литературно-логической концепции и связав его с научной критикой общества. Последняя использует результаты научного исследования общественных явлений, если таковые уже имеются в наличии, и сама предпринимает научное исследование в меру своих возможностей и целей, если наука об этом обществе отсутствует совсем или находится в таком состоянии, что результаты ее не удовлетворяют интересы критики. Научная критика общества явление не новое в истории человечества. Духовная жизнь Европы прошлого века и начала нашего века была перенасыщена ею. Достаточно привести в качестве примера марксистскую критику капитализма. И в России того периода идеи научной критики общественных явлений были представлены довольно широко. И не представляет труда заметить их по крайней мере косвенное влияние на Чехова. Я склонен считать социологический реализм приближением к научной критике общества и, вместе с тем, ее продолжением и приложением в литературе.
Основная задача литературы социологического реализма – не развлекать читателя, а побуждать его задумываться над важными жизненными проблемами. Это – литература для работы мысли. Именно для работы. Причем, чтобы понимать со и получать от нее эстетическое удовольствие, нужно иметь привычку и навыки к ней, нужно прилагать усилия, чтобы читать и понимать ее. Иногда нужно перечитывать много раз, чтобы понять заложенные в пей мысли и ощутить интеллектуальную красоту. Здесь нужно обладать эстетическим чувством особого рода,– способностью не просто понимать, а замечать эстетический аспект абстрактных идей. Читателей такого рода не так-то уж много в мире, и литература социологического реализма не может рассчитывать на такой массовый успех, как литература эротическая, детективная, приключенческая, научно-фантастическая.
ДВА ПЕРИОДА В ТВОРЧЕСТВЕ ЧЕХОВА
 В творчестве Чехова отчетливо различаются два периода. В течение первого периода (1880–1887 годы) Чехов писал многочисленные короткие рассказы, в которых он давал описание характерных персонажей и бытовых сцен своего времени. В совокупности эти рассказы создавали грандиозную по широте охвата и глубине проникновения картину быта и нравов русского общества того времени. Эта картина вышла далеко за рамки своего времени, сохранив свою актуальность и для послереволюционного советского общества по причинам, о которых я уже говорил выше. Чехов продолжал писать такие рассказы и во второй период своего творчества, но уже не в таком количестве и с иной ориентацией. На этом этапе прямые обобщающие и оценочные высказывания Чехова о том, что он описывал, были минимальными или отсутствовали совсем. Второй период начался в конце восьмидесятых годов (1888–1889 годы). В этот период Чехов стал «писать рассуждения» (по его выражению), т. е. писать произведения (главным образом – пьесы и повести), в которых центр тяжести переместился на осмысление реальности. Если на первом этапе чеховские персонажи в основном действовали, а размышляли и говорили лишь в той мере, в какой это требовалось для описания их как действующих лиц бытовой комедии, то на втором этапе чеховские герои в основном размышляют и рассуждают о жизни, а их действия служат как бы материалом и иллюстрацией для их слов и мыслей. Описание реальности на этом этапе сведено к минимуму, необходимому для размышлений и рассуждений об этой реальности. Причем реальность проникает на .страницы чеховских произведений уже как отраженная и препарированная в рассуждениях его героев.
В творчестве Чехова отчетливо различаются два периода. В течение первого периода (1880–1887 годы) Чехов писал многочисленные короткие рассказы, в которых он давал описание характерных персонажей и бытовых сцен своего времени. В совокупности эти рассказы создавали грандиозную по широте охвата и глубине проникновения картину быта и нравов русского общества того времени. Эта картина вышла далеко за рамки своего времени, сохранив свою актуальность и для послереволюционного советского общества по причинам, о которых я уже говорил выше. Чехов продолжал писать такие рассказы и во второй период своего творчества, но уже не в таком количестве и с иной ориентацией. На этом этапе прямые обобщающие и оценочные высказывания Чехова о том, что он описывал, были минимальными или отсутствовали совсем. Второй период начался в конце восьмидесятых годов (1888–1889 годы). В этот период Чехов стал «писать рассуждения» (по его выражению), т. е. писать произведения (главным образом – пьесы и повести), в которых центр тяжести переместился на осмысление реальности. Если на первом этапе чеховские персонажи в основном действовали, а размышляли и говорили лишь в той мере, в какой это требовалось для описания их как действующих лиц бытовой комедии, то на втором этапе чеховские герои в основном размышляют и рассуждают о жизни, а их действия служат как бы материалом и иллюстрацией для их слов и мыслей. Описание реальности на этом этапе сведено к минимуму, необходимому для размышлений и рассуждений об этой реальности. Причем реальность проникает на .страницы чеховских произведений уже как отраженная и препарированная в рассуждениях его героев.
Характерными образцами произведений первого периода являются рассказы «На гвозде», «Смерть чиновника», «Толстый и тонкий», «Хирургия», «Хамелеон», «Маска», «Свадьба с генералом», «Злоумышленник», «Унтер Пришибеев», «Торжество победителя», «Мелюзга». Переходными ко второму периоду являются повесть «Степь» и рассказы «Огни», «Именины», «Припадок» и «Дуэль». Характерными образцами произведений второго периода являются пьесы «Иванов», «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад»; повести «Попрыгунья», «Палата № 6»; рассказы «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «Случай из практики», «Дама с собачкой», «В овраге».
Я па своем личном опыте пришел к выводу, что эти два периода в творчестве Чехова не случайны. Я начал свою публичную литературную деятельность сразу со второго периода–с периода рассуждений. Моя первая книга, «Зияющие высоты», была книгой прежде всего о приключениях идей и лишь во вторую очередь о приключениях носителей идей. Весь событийный аспект я придумал лишь как предлог и как повод высказать и развить определенный круг идей. Первый период литературной эволюции, аналогичный первому периоду творчества Чехова, у меня был украден советскими условиями. Я начал к нему возвращаться в какой-то мере в последующих книгах, насыщая их короткими анекдотичными и фельетонными историями. Так что для писателя, пишущего в рамках социологического реализма, рассматриваемые два периода чеховского творчества так или иначе реализуются хотя бы как два аспекта творчества, если даже эволюция писателя оказывается противоположной нормальной.
ВНЕШНЕЕ И ВНУТРЕННЕЕ ДЕЙСТВИЕ
Хочу особое внимание обратить на одну особенность творчества Чехова во второй период, которая чрезвычайно близка мне как писателю. Эта особенность наиболее отчетливо проявилась в пьесах Чехова.
Пьесы Чехова мы изучали в школе и писали по ним сочинения. Нас водили на них в театр. Мы ставили «Вишневый сад» в школьном драматическом кружке. Мне не раз приходилось видеть их в различных театрах. Среди моих знакомых было много театралов, литературных критиков и артистов. Так что я знал пьесы Чехова почти наизусть и участвовал в разговорах о них на уровне, на котором интерес представляло то, кто и как сыграл ту или иную роль, кто и как поставил спектакль.
Чеховские пьесы считаются бессюжетными. Это верно лишь с оговорками и лишь отчасти. Сюжет в них есть. В них вообще есть все элементы классической драматургии. Но они здесь играют иную роль, чем в «сюжетных» пьесах, т. е. в пьесах-действиях. Дело в том, что, начав «писать рассуждения», Чехов обратился к драматургии как к самому удобному и эффективному средству для этого. В результате он открыл в русской литературе новую форму драматургии, отличающуюся от традиционной соотношением внешнего (зримого) действия п так называемого «внутреннего действия», происходящего в рассуждениях действующих лиц. Различие традиционной и чеховской драматургии отчетливо проступает при сравнении чеховских пьес с пьесами другого великого русского драматурга – А. Н. Островского. В традиционной драматургии главную роль играет событийный и зрелищный аспект («внешнее действие»), а то, что говорят действующие лица («внутреннее действие»), служит цели объяснения, обоснования, организации действия.
В чеховских же пьесах, наоборот, событийный и зрелищный аспект является подчиненным аспекту интеллектуальному и разговорному. Здесь акцент делается на то, о чем говорят действующие лица. Внешнее действие дает повод для разговоров, дает обоснование и иллюстрации к тому, что разворачивается в словесном аспекте – во внутреннем действии.
Естественно, такое изменение соотношения внешнего и внутреннего действий в пьесе изменило и отношение литературного произведения к реальности. В случае с традиционной драматургией читатель и зритель воспринимают события в пьесе по тем же общим правилам, по каким они воспринимают события в реальности. Писатель в этом случае хотя и выдумывает нечто не существующее в реальности, но строит свою выдумку так, чтобы она выглядела как кусок реальности. В случае же с чеховской драматургией лишь внешний аспект действия воспринимается таким образом. А главный аспект, т. е. внутреннее действие, воспринимается совсем иначе, а именно – не как изображение или имитация некоего куска жизни, а как своего рода проповедь или лекция о жизни.
Внешнее действие в драматургии имеет свои правила. И Чехов, отведя ему второстепенную роль, педантично соблюдает эти правила. Если не вдумываться в то, что происходит во внутреннем действии, пьесы Чехова покажутся вполне традиционными и удобными для постановки даже в самодеятельных драматических коллективах. Правила внешнего действия, однако, не распространяются на действие внутреннее, когда оно становится доминирующим. Тут все зависит от того, каким идейным багажом обладает сам автор и как он способен распределить его в своей проповеди или лекции, представленной в форме внешнего театрального действия.
Чеховский способ «писать рассуждения» имеет то преимущество, что автор таким путем избегает односторонности и неподвижности (одеревенелости) суждений, распределяя свои собственные потенциальные суждения между различными персонажами. Реальная жизнь необычайно сложна, запутанна, изменчива, противоречива и многогранна. Истина о жизни не может быть выражена какой-то одной формулой и даже одной концепцией. Истина о жизни может быть достигнута лишь в борьбе различных, часто – взаимоисключающих мнений. И дело тут даже не в том, чтобы в результате обсуждения или спора прийти к некоей окончательной истине. Дело в том, что сам процесс обсуждения и спора и есть процесс жизни самой истины. В вопросах жизни истина сама есть явление живое со всеми атрибутами живого, со всеми недостатками и достоинствами живого. Тут речь идет об истине не в академическом смысле, а в житейском смысле, когда суждения людей зависят от многих факторов, включая их собственное положение в обществе, причем – от факторов, меняющихся в зависимости от времени и пространства. Я убежден в том, что для Чехова было важно не какое-то окончательное решение проблем, обсуждаемых его героями, а сам процесс обсуждения, на самом деле и являющийся определенной формой решения этих проблем. Чехов избегал навязывать читателям какое-то окончательное решение не потому, что не имел его, а потому, что чувствовал ложность всякого окончательного решения. Эту установку уже в советский период поэт Александр Галич выразил словами: Люди! Бойтесь тех, кто знает, как надо!
В моем собственном отношении к Чехову я сам различаю два периода. Первый период – период вынужденного знакомства с творчеством Чехова. При этом главный интерес был сосредоточен на том, что Чехов делал главным образом в первый период своей писательской эволюции и лишь отчасти во второй, а именно – на юмористически-сатирическом изображении явлений русской общественной жизни, которые оказались живучими и в мое время. Второй период моего внимания к Чехову начался тогда, когда я сам стал писать литературные произведения, в которых сам стал писать «рассуждения». При этом я сделал главным сам процесс обсуждения проблемы, обычно не ведущий к окончательному решению или заканчивающийся сатирически-юмористическим решением. Я поступал так не из подражания Чехову, а в силу некоего литературного инстинкта. Я лишь несколько лет спустя обратил внимание на чеховские сочинения с этой точки зрения.
МАЛАЯ И БОЛЬШАЯ ФОРМА
В первый период своего творчества Чехов писал в основном небольшие по размеру произведения, во второй же – сравнительно большие. Этот факт объясняется как условиями вхождения Чехова в литературу, так и его эволюцией как писателя.- Но тут есть одна проблема, к которой я пришел опять-таки на основе личного писательского опыта.
Я писал «Зияющие высоты» в таких условиях, что буквально каждая новая страница могла оказаться последней. Поэтому я вынуждался писать книгу не как традиционный большой роман, а как сборник малых литературных и научных произведений, объединяемых в единое целое лишь общими идеями и условным сюжетом, который мог быть завершен или изменен в любой момент. Будучи поставлен в такие рамки, я скоро начал сознательно следовать этому принципу — писать каждый отрывок как законченное целое, объединяя отдельные отрывки в более сложное целое по тому же принципу, а эти более сложные куски – в целую книгу. Этот принцип я сохранил и в последующих книгах, правда – не в столь резкой и очевидной форме. При таком подходе к литературному произведению центр тяжести переносится с целого на образующие его части. Отсюда – «бессюжетность» большого произведения, даже некоторая возможность читать его в любом порядке и частично, выборочно. Готовя материалы к книге «В преддверии рая», я вообще собирался написать ее как своего рода партитуру для оркестра, предполагая читателя, который запомнит отдельные более или менее автономные части и будет перечитывать книгу, держа в голове все аспекты целого. Но, увы, такой читатель – редкое исключение. Я отложил этот эксперимент до неопределенного будущего, когда вдруг случится чудо и я буду иметь возможность довести его до конца.
Вот с такими принципами относительно большого произведения как сборника малых произведений, объединенных в единое целое единой темой и идеей, я обратился к Чехову. Это было не случайно, ибо только Чехов в классической русской литературе показался мне близким к моим принципам. Тут мало было иметь перед собою собрание сочинений писателя. Тут нужно было собрание сочинений определенного вида с тенденцией к объединению отдельных произведений в целое. С этой точки зрения, у Чехова были, конечно, предшественники. Я могу здесь сослаться на Козьму Пруткова А. К. Толстого и братьев Жемчужниковых. Но тут объединение малых форм в большую не пошло дальше сборника фельетонов, шуток, анекдотов. У Чехова эта тенденция пошла значительно дальше.
Думаю, что «бессюжетность» основных произведений Чехова во второй период его творчества и преобладание в них «внутреннего» действия в значительной мере объясняются также (наряду с другими причинами) рассмотренным выше подходом к соотношению малых и больших литературных форм. И хотя в завершенных больших произведениях Чехова это соотношение не столь очевидно, как в моей схематизации, однако их нельзя рассматривать просто как увеличенные по размерам («раздутые») малые. В основе их так или иначе лежит принцип перехода от множества малых форм к их единству в больших. Наиболее отчетливо это проступает в пьесах Чехова, которые в принципе можно рассматривать как комбинации небольших скетчей с завершенными и частично автономными идеями.
ЧЕХОВСКИЙ МИР
Еще в те годы, когда наши учителя и профессора твердили нам в один голос, что самые выдающиеся деятели русской дореволюционной культуры хотя и приблизились вплотную к высотам (или глубинам) марксизма, все же не смогли одолеть их, я задавался вопросом: в чем тут дело? Почему эти высоты (или глубины, что то же самое) с легкостью одолевают самые тупые и плохо образованные ученики и студенты, а самые выдающиеся умы в истории России оказались бессильными в этом отношении? А что, если они не превратились в марксистов именно потому, что были для этого слишком умными? А что, если идеи марксизма и аналогичные им идеи социалистов и коммунистов прошлого вовсе не были для них ни высотами, ни глубинами? Я сравнительно рано начал склоняться к положительному ответу на эти вопросы. Но прошли годы, прежде чем «истины» марксизма стали для меня предметом насмешки и серьезной критики. В применении к Чехову, человеку безусловно большого ума, сформулированные выше вопросы приняли для меня такой вид: почему Чехов в условиях, когда духовная атмосфера России была перенасыщена идеями социализма и даже идеями социализма марксистского толка, остался как будто бы в стороне от них, не проявил к ним особого интереса хотя бы как к элементу интеллектуальной жизни страны? Почему в предреволюционные годы (Чехов умер в 1904 году, т. е. накануне революции 1905 года) он ограничился лишь очень редкими и смутными намеками своих героев насчет приближения некоей бури? Я думаю теперь, что дело тут не в том, что Чехов чего-то не понял и недооценил, а в более глубокой ориентации его личности и интересов. В его записных книжках было замечание, что революции не будет. Я не считаю это утверждение политическим утверждением – Чехов был человеком вне политики. Ведь даже сам Ленин, вся жизнь которого была подчинена подготовке революции, как-то обмолвился уже в 1916 году, что революция в России маловероятна. Из этого замечания не следует, что Ленин не верил или хотя бы сомневался в революции. Так что и чеховскую реплику не следует истолковывать как нечто принципиально важное. В его произведениях чувствуется интерес к самым различным идейным явлениям того времени, включая проблемы этики, широко обсуждавшиеся тогда в печати, и социального дарвинизма. И поч.ти никаких следов интереса к проблемам социализма. Некоторые чехововеды полагают, что Чехов знал о марксизме лишь понаслышке. Охотно допускаю это. И, как мне кажется, я понимаю чеховское безразличие в этом отношении: марксизм, как и другие социально-политические и идеологические течения того времени, не мог дать ответа на вопросы, волновавшие Чехова. Его сознание и интересы лежали в ином измерении бытия. Чехов, как и другие великие деятели русской культуры (Герцен, Салтыков-Щедрин, Достоевский, Толстой), был слишком чуток к реальности и слишком умен, чтобы поддаться обаянию марксизма и всего марксизмообразного. Его мир был иным.
Хотя Чехова и можно отнести к тому направлению в русской литературе, которое можно назвать социологическим реализмом, он все-таки писатель, а не социолог. Даже специалисты историки и социологи до сих пор не рассматривают русское общество конца девятнадцатого века в том виде, в каком оно содержало в себе элементы будущего коммунистического общества. Тем более было бы несправедливо требовать такое от писателя. Но писатели порою обладают способностью видеть социальную сущность реальности и ее тенденции лучше, чем специалисты-ученые. С Чеховым случилось так, что главным объектом его творчества («чеховским миром» ) стало то в русском обществе, что связывало его в единый государственный организм, в организованную по принципам государственности империю. Если выстроить в ряд всех чеховских героев, то среди них можно увидеть представителей всех классов, слоев, сословий и т. п. русского общества. Если перечислить все жизненные ситуации, описанные в произведениях Чехова, то среди них можно увидеть все возможные отношения между людьми того времени. Однако во всей этой гигантской картине русской жизни не представляет труда заметить доминирующие черты чеховского видения реальности, а именно – изображение того в людях и в их отношениях, что обусловлено самим фактом объединения их в единое государственное целое, распределением их в этом социальном организме по различным ступеням социальной иерархии, исполняемыми ими различными социальными функциями.
Социальные отношения, которые в России в чеховские годы стремительно разрастались, подготавливая социальный базис будущего коммунистического (социалистического) общества, наиболее откровенно и остро проявлялись в среде чиновничества. Уже царь Николай I как-то бросил фразу, что Россией управляли 30 тысяч столоначальников (столоначальник – чиновник среднего уровня). А к началу двадцатого века государственный аппарат России разросся еще более. Так что не случайно чиновник стал в творчестве Чехова одной из центральных фигур (если не самой главной), а представители других социальных категорий стали рассматриваться в их чиновничьеподобных функциях и отношениях. «Россия,– писал Чехов,– страна казенная». Он с поразительной художественной силой на примере чиновничества показал, что положение человека в социальной системе и иерархии русского общества стало превращаться в фактор, определяющий все остальные аспекты жизни, идеологии, морали и психологии человека, что отношения начальствования и подчинения стали превращаться в базис для всех прочих отношений. И в этом смысле Чехов был предшественником реалистической критики коммунистического социального строя в наше время в гораздо большей степени, чем любой писатель дореволюционной России.
Чиновник не был новой фигурой в русской литературе. Традиция описания чиновничьего быта и нравов, восходящая к Гоголю, была одной из сильнейших в русской литературе. Эта традиция возникла как гуманистическая. Мелкие чиновники изображались в ней как обездоленные и угнетенные существа, достойные сострадания. Радикальным образом отношение к чиновничеству изменил Салтыков-Щедрин, сделав чиновничество предметом сатиры. Впрочем, уже у самого Гоголя чиновничество стало изображаться в щедринских тонах (например, в «Ревизоре» ). Чехов довел анализ сущности чиновничьих отношений до логического конца. В его изображении чиновник выступает как существо, в потенции содержащее в себе как качества деспота, так и качества раба, обнаруживающиеся лишь в зависимости от реального его положения в системе начальствования и подчинения. Вчерашний раб легко превращается в деспота, и наоборот, ибо оба эти качества суть лишь две стороны одного и того же социального феномена – феномена власти и подчинения (см., например, рассказы «Двое в одном» и «Торжество победителя» ). Один и тот же человек проявляет себя без всяких душевных драм различно в различных ситуациях – то как раб, то как властелин. Чехов не имеет себе равных в русской литературе и в изображении того, как социальное положение человека определяет собою все прочие аспекты его жизни, включая семейные, товарищеские и любовные отношения. В марксистском чехововедении, однако, обошли молчанием тот факт, что многие персонажи Чехова могли бы выступить классической иллюстрацией тезиса марксизма о человеке как о совокупности общественных отношений.
Что особенно важно, на мой взгляд, в сочинениях Чехова, это описание тенденции очиновничения всего русского общества, превращение массы людей, формально не считавшихся чиновниками, в нечто чиновникообразное. Чехов создал образы не просто чиновников по профессии, а образы чиновничьих отношений во всех сферах жизни и во всех слоях общества. В русской истории вообще эта тенденция была доминирующей. Русская история была по преимуществу историей империи, историей формирования и укрепления государственности, историей разрастания управленческого аппарата. В советских условиях эта тенденция достигла логического завершения.
Именно интерес к чиновничье-бюрократическому аспекту жизни общества позволил Чехову открыть для литературы область явлений, которые казались малозначительными житейскими пустяками и мелочами, но под пристальным взглядом Чехова обнаружили свою решающую роль в создании определенного строя и образа жизни. Как заметил один из чеховских героев (в рассказе «Страх»), страшна главным образом обыденщина, от которой невозможно спрятаться.
Я считаю, что с социологической точки зрения самым значительным в творчестве Чехова является обнаружение власти ничтожеств и ничтожности («обыденщины») как основы основ жизни государственно организованного общества. С этой точки зрения чеховская «неспособность» (как считают советские литературоведы) подняться до уровня марксистского понимания русской реальности и выработать положительные идеалы гораздо ближе к исторической реальности, чем марксистская «способность» такого рода. Как показал семидесятилетний опыт советской истории, власть «мелочей» и власть ничтожеств (власть «обыденщины») не только не ослабла в социалистической России, но, наоборот, всемерно окрепла и расширилась, захватив все сферы жизни общества.
В советской литературе и публицистике постоянно появлялись и появляются произведения, в которых чиновничество изображается в юмористическом и сатирическом виде. Более того, такие характерные для чиновничества явления, как бюрократизм, консерватизм, карьеризм, коррупция и т. п., постоянно подвергаются критике в решениях высших органов власти, в прессе и в пропаганде. Однако это изображение и эта критика чиновничества принципиально отличаются от тех, какие имели место в произведениях Чехова. Они не превращаются в критику самой сущности социального строя страны, включены в общий контекст апологетической литературы, публицистики и пропаганды в качестве их подсобных средств. Сатира и юмор страшны не сами по себе, а лишь как выражение стоящей за ними более глубокой и сильной страсти.
СВОБОДА И ЗАКРЕПОЩЕНИЕ
 Чехов считал отсутствие свободы одним из величайших зол существующего социального устройства. Это убеждение он неоднократно выражал устами своих героев и в прямых авторских высказываниях. Но это было бы само по себе банально, если бы он остановился на этом. Чехов в своих произведениях выразил нечто гораздо более значительное, чем сам очевидный всем факт отсутствия свободы. Особенно выразителен с этой точки зрения его рассказ «Человек в футляре», один из самых потрясающих чеховских шедевров. Я не буду пересказывать содержание рассказа,– думаю, что оно должно быть хорошо известно почитателям творчества Чехова на Западе. А советские люди знают его, как в старину русские люди знали «Отче наш». Коснусь лишь основной идеи рассказа. Заключается она в следующем. Отсутствие свободы и закрепощение человека есть неизбежное следствие самого существующего социального строя. Причем, это отсутствие свободы и рабство не есть зло, навязанное людям какими-то силами извне. Оно есть их собственное порождение. Одни члены общества являются активными и добровольными слугами и стражами существующего порядка. Характерным представителем этой категории людей является главный герой рассказа учитель Беликов. Причем эти люди – отнюдь не высшие лица в системе власти и не представители привилегированных классов, а самые что ни на есть заурядные граждане. Беликов – учитель гимназии. Герой рассказа «Унтер Пришибеев» – бывший унтер-офицер. Другие члены общества также добровольно принимают этот порядок, пассивно приспосабливаясь к нему. Характерным представителем этой категории людей является другой учитель гимназии и ветеринар из чеховского рассказа. Такие люди прекрасно понимают, в каких условиях и как они живут. Они понимают, что живут в атмосфере лжи и унижения, что не смеют открыто протестовать, что сами лгут и совершают пакости из-за куска хлеба, из-за теплого угла, из-за повышений по службе и прочих житейских мелочей. В чеховском рассказе добровольный служитель режима Беликов, терроризировавший всех, умирает. Его жертвы вздыхают с облегчением: наконец-то они свободны. Но вскоре они убеждаются в том, что после смерти Беликова в их жизни ничто не изменилось. Осталась сама система жизни, которую Беликов лишь олицетворял,– осталась беликовщина, являющаяся продуктом общих усилий как господ, так и рабов. Рабов в особенности.
Чехов считал отсутствие свободы одним из величайших зол существующего социального устройства. Это убеждение он неоднократно выражал устами своих героев и в прямых авторских высказываниях. Но это было бы само по себе банально, если бы он остановился на этом. Чехов в своих произведениях выразил нечто гораздо более значительное, чем сам очевидный всем факт отсутствия свободы. Особенно выразителен с этой точки зрения его рассказ «Человек в футляре», один из самых потрясающих чеховских шедевров. Я не буду пересказывать содержание рассказа,– думаю, что оно должно быть хорошо известно почитателям творчества Чехова на Западе. А советские люди знают его, как в старину русские люди знали «Отче наш». Коснусь лишь основной идеи рассказа. Заключается она в следующем. Отсутствие свободы и закрепощение человека есть неизбежное следствие самого существующего социального строя. Причем, это отсутствие свободы и рабство не есть зло, навязанное людям какими-то силами извне. Оно есть их собственное порождение. Одни члены общества являются активными и добровольными слугами и стражами существующего порядка. Характерным представителем этой категории людей является главный герой рассказа учитель Беликов. Причем эти люди – отнюдь не высшие лица в системе власти и не представители привилегированных классов, а самые что ни на есть заурядные граждане. Беликов – учитель гимназии. Герой рассказа «Унтер Пришибеев» – бывший унтер-офицер. Другие члены общества также добровольно принимают этот порядок, пассивно приспосабливаясь к нему. Характерным представителем этой категории людей является другой учитель гимназии и ветеринар из чеховского рассказа. Такие люди прекрасно понимают, в каких условиях и как они живут. Они понимают, что живут в атмосфере лжи и унижения, что не смеют открыто протестовать, что сами лгут и совершают пакости из-за куска хлеба, из-за теплого угла, из-за повышений по службе и прочих житейских мелочей. В чеховском рассказе добровольный служитель режима Беликов, терроризировавший всех, умирает. Его жертвы вздыхают с облегчением: наконец-то они свободны. Но вскоре они убеждаются в том, что после смерти Беликова в их жизни ничто не изменилось. Осталась сама система жизни, которую Беликов лишь олицетворял,– осталась беликовщина, являющаяся продуктом общих усилий как господ, так и рабов. Рабов в особенности.
Эта мысль о системе рабства и отсутствия свободы в России не была новой в русской литературе. Еще Лермонтов говорил о России как о «стране рабов, стране господ». Чернышевский шел еще дальше. «Рабы,– говорил он,– сверху донизу все рабы». Новым у Чехова было то, что он почувствовал добровольный характер той формы рабства, которая не исчезла с отменой крепостного права в 1861 году и которая не исчезла в результате революции 1917 года. Мне самому с детства приходилось ощущать на самом себе власть ближних, которая пострашнее власти карательных органов, ибо такая власть есть добровольное взаимное порабощение людей друг другом, причем – лицемерно прикрываемое заботами о благе ближних. Когда я опубликовал «Зияющие высоты» на Западе, от меня отвернулись все мои коллеги и почти все (за редким исключением) друзья, даже такие, с которыми я дружил десятки лет. Причем отвернулись не потому, что боялись наказания за общение со мною,– им абсолютно ничто не угрожало. Они отвернулись от меня потому, что я нарушил принципы взаимного рабства и взаимного отказа от свободы, с которыми мы жили много лет вместе. Я отказался быть добровольным рабом, и то они сочли самым страшным моим преступлением. Они требовали предать меня суду. Карательным органам даже пришлось защищать меня от их добровольной расправы со мной.
Чеховские унтер Пришибеев и учитель Беликов добровольно служили режиму рабства, не получая за это никакого вознаграждения и даже страдая из-за этого. Мне такие чеховские персонажи встречались в жизни на каждом шагу. В Советской России число их возросло в сотни и тысячи раз. В качестве курьезного, но далеко не исключительного примера я приведу здесь случай с одним человеком, с которым я был хорошо знаком. Это был бывший полковник КГБ, уволенный на пенсию в хрущевские годы. Назову его именем Филатов. Выйдя на пенсию, он поселился в провинциальном городке. То, что происходило в стране, показалось Филатову вопиющим нарушением принципов социализма. Он стал составлять списки людей, которые в сталинские годы наверняка были бы арестованы, и записывать их крамольные высказывания. Но одному за всеми уследить было невозможно. Тогда он по своей инициативе создал сеть осведомителей по всем правилам сталинских лет. И что самое удивительное, нашлись буквально сотни добровольцев, которые не за страх, а за совесть стали работать для Филатова. Они следили за людьми в определенных для них местах и регулярно писали доносы, которые передавали Филатову. Эта сеть осведомителей опутала весь город. И организована она была так блестяще, что разоблачить ее практически было невозможно. Люди чувствовали, что она есть, но ничего с ней поделать не могли. Им даже как-то легче жить стало от сознания, что они все опять под надзором всесильных органов государственной безопасности. На основе доносов осведомителей Филатов готовил свой грандиозный сверхдонос, который собирался послать в ЦК КПСС или даже прямо в адрес предстоящего Съезда КПСС. Но и этого ему показалось мало. Он стал посылать письма людям, которые, по его мнению, вели себя неправильно, с угрозами довести до сведения высших властей о их поведении и добиться их наказания. В результате в городе сложилась обстановка всеобщего страха, подозрительности и ожидания новой волны репрессий. Наконец, Филатов закончил первый том своего сверхдоноса и послал его в ЦК КПСС и в КГБ. Там к сверхдоносу Филатова отнеслись с юмором. Но в ЦК пришли письма от многих жителей города, включая партийных работников, в которых высказывалась тревога по поводу деятельности сети осведомителей Филатова и просьба насчет инструкции сверху по этому поводу. Тогда из Москвы прислали целую группу офицеров КГБ и сотрудников ЦК выяснить на месте, в чем дело. Когда Филатов познакомил их с деятельностью своей организации, москвичи схватились за голову. Кончилось тем, что Филатова поместили в психиатрическую больницу, а его сеть осведомителей решили «временно законсервировать». В Москве думали, что она еще может пригодиться. Во всяком случае, опыт работы этой добровольной сети решили распространить в официальной сети осведомительства.
Конечно, точно таких людей, как Филатов, не так много в современной России. Но ведь и точных копий Пришибеева и Беликова было немного в дореволюционной России, если они вообще были. Однако реальный сумасшедший Филатов в такой же мере характерен для современной России, в какой вымышленные литературные Пришибеев и Беликов – для России дореволюционной. Принципы пришибеевых и беликовых, вроде принципа «Как бы чего не вышло», стали фактически принципами жизни многих миллионов советских граждан. В реальной Советской России есть миллионы реальных людей, которые пострашнее Филатова по своему воздействию на общество. Но их суть скрыта под личиной морально-политически зрелых и добропорядочных граждан. Тот факт, что они суть оплот общества, обнаружить не так-то просто. Тем более в Советской России, в отличие от дореволюционной, этот факт нельзя сделать общеизвестным через литературу. Появись Чехов в советское время, он не имел бы никаких шансов опубликовать свои шедевры о советских пришибеевых и беликовых.
Мысль о самозакрепощении людей можно обнаружить и в других произведениях Чехова. Возьмем, например, пьесу Чехова «Три сестры», которую я считаю его лучшей пьесой. В пьесе более десяти персонажей. Почти все они – образованные люди, страдающие от «противоестественных» социальных отношений, да к тому же в их самой чудовищной форме – в провинциальной. Им в пьесе противостоит всего лишь один активный носитель социального зла – молодая женщина. И перед нею капитулируют прочие вроде бы положительные персонажи. Капитулируют прежде всего потому, что они так или иначе добровольно принимают рабство, навязываемое им средой. Они капитулируют не потому, что бессильны бороться против рабства, а потому, что они сами носители его. Дело не просто в некоем внешнем им зле, сковывающем их. Дело в их собственной натуре как потенциальных носителей зла.
Чеховские герои вообще не бунтари, не борцы, не революционеры. Их бунт и протест ограничивается домашними масштабами, разговорами и кратковременными порывами. Советские литературоведы усматривают в этом слабость Чехова, не заметившего сил протеста и революционности, таившихся в русском народе. Возможно, это действительно так. Но тут имеется другая сторона дела, а именно та, что Чехов докопался до такого фундаментального пласта русской общественной жизни, в отношении которого проблема свободы принимает не политический, а социологический смысл.
В проблеме свободы и несвободы есть еще один аспект, о котором обычно стараются умалчивать, а именно – как и почему миллионы людей принимают свою форму закрепощения. Можно небольшое число людей _и на небольшое время обманом и силой заставить принять некоторую форму закрепощения. Но когда речь идет о миллионах людей и их повседневной жизни в ряде поколений, то обманом и насилием ничего не объяснишь. В этом случае проблема «Почему люди закрепощены?» в сущности своей есть проблема «Почему люди предпочитают быть закрепощенными?».
В советском обществе те тенденции взаимного закрепощения, которые давали о себе знать уже в чеховские годы, безмерно усилились. Коммунистическое рабство в огромной степени сравнительно с прошлым обществом расширяет численно круг членов общества, наделенных официальной властью над другими, и дает почти каждому рядовому члену общества крупицу фактической власти над ближними. Это общество до невиданных доселе размеров увеличивает массу власти, наделяя ею и миллионы своих рядовых членов. Наделяет по тем же законам, по каким вообще распределяются блага в этом обществе,– каждому соответственно его социальному положению. Но все же наделяют. Это такое рабство, в котором рабское положение компенсируется возможностью для каждого видеть в окружающих подвластные ему существа,– здесь вместо свободы предлагается возможность лишать свободы других, т. е. соучастие в закрепощении. Не стремление быть свободными, но стремление лишить других людей такого стремления к свободе – вот какой эрзац свободы предлагается здесь гражданам. А это много легче, чем борьба за то, чтобы не быть рабами.
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
Начав «писать рассуждения», Чехов, естественно, обратился к изучению и описанию той части русского общества, которая по самому своему воспитанию, образованию и положению в обществе занималась главным образом размышлениями и рассуждениями о жизни, т. е. обратился к образованным («университетским») людям – к интеллигенции.
В конце девятнадцатого и начале двадцатого века в России началось беспрецедентное для ее истории развитие культуры. Стало стремительно расти число учителей, врачей, ученых, писателей, журналистов, артистов, художников, инженеров и других категорий людей, деятельность которых предполагала сравнительно высокий уровень образованности, интеллектуальный труд и творческие способности. Эти категории людей образовали довольно значительный слой русского общества – интеллигенцию. Все жизненно важные проблемы общества отразились и сконцентрировались в этом слое, умножились здесь, углубились и обострились. Русская история еще не знала такой интенсивной духовной жизни, как в этот период. Так что обращение Чехова к интеллигенции во втором периоде его творчества было вполне понятным. Это было не только обращением к новому объекту для литературы, но и переходом к более глубокому и полному изучению жизни русского общества вообще. Интеллигенция рассматривалась Чеховым в двух аспектах: 1) как особый социальный слой наряду с другими (с чиновниками, помещиками, капиталистами, крестьянами, рабочими); 2) как множество лиц, выполняющих функцию самосознания общества, думающих о положении в стране, выдвигающих проблемы и ищущих их решения. Поскольку лица, упомянутые во втором пункте, почти полностью принадлежали к интеллигенции как социальному слою, эти два аспекта у Чехова не различались. Размышления и разговоры на темы, волновавшие русское общество того времени, были на первом плане и выглядели фактически как основное дело интеллигенции. Профессиональные же обязанности интеллигенции и те специфические проблемы, с которыми она сталкивалась при исполнении этих обязанностей, отошли на задний план или всплывали в контексте ее размышлений и разговоров. Другими словами, главным объектом творчества Чехова во втором периоде стали общие социально-политические проблемы в той форме, в какой они отражались в мыслях, чувствах и поведении интеллигенции как носителя и выразителя самосознания общества.
В литературоведении считается, что Чехов развенчал интеллигенцию. При этом имеются в виду идеалы и программы преобразования общества, выдвигавшиеся в то время в среде интеллигенции. Но у Чехова получилось, хотел он этого или нет, нечто большее: он развенчал интеллигенцию как особую социальную категорию. Он показал (или у него так получилось), что никчемность идеалов и программ интеллигенции обусловлена ее положением в обществе, теми социальными отношениями, в которые она оказалась вовлеченной по роду своей профессиональной деятельности. Чехов в своем творчество отразил начало того процесса преобразования русского общества, в результате которого произошло радикальное изменение социальной структуры населения и прежние понятия и представления потеряли смысл. Это целиком и полностью относится к интеллигенции. Рассмотрим с этой точки зрения конечный продукт упомянутого процесса – Советскую Россию. Куда вы отнесете, например, десятки и сотни тысяч людей, имеющих высшее образование и довольно высокий уровень культуры, но работающих в органах государственной безопасности, в милиции, в юридических учреждениях, в закрытых военных институтах и штабах, в разведке? Писателей и журналистов вроде бы без всяких колебаний можно отнести к интеллигенции. Но их в Советском Союзе многие десятки тысяч. И подавляющее большинство из них суть функционеры и чиновники в советской идеологической и пропагандистской системе. К какой социальной категории вы их отнесете? С учеными ситуация еще труднее. Возьмите любой исследовательский институт, и вы в нем обнаружите представителей самых различных фактических социальных категорий, что делает понятие «интеллигенция» совершенно бессмысленным в применении к этой социальной группе, которая в прошлом веке была бы единодушно отнесена к интеллигенции.
Но ограничим понятие интеллигенции лишь кругом лиц, которые профессионально работают в области культуры (наука, литература, музыка, живопись), хранят достижения культуры, передают их новым поколениям и сами вносят в культуру свой вклад. В советском обществе все они (за редким исключением) являются сотрудниками государственных учреждений (научно-исследовательские институты и лаборатории, университеты) или членами особого рода организаций вроде Союза писателей, Союза художников, которые формально считаются объединениями, но фактически суть лишь разновидности все тех же государственных учреждений. И почти все, что делают эти граждане (за немногим исключением), делается в рамках этих учреждений и под их контролем. Сами же эти учреждения в целом включены в единую систему советских учреждений, находятся под строжайшим контролем других учреждений, более крупных учреждений, в которые они входят, особых органов управления, включая партийный контроль. Все то, что делается вне этой системы организации людей и контроля за их деятельностью, считается нарушением законов страны и фактически является нарушением этих законов.
С моральной точки зрения советская интеллигенция есть наиболее циничная часть населения. Она лучше образованна, ее менталитет исключительно гибок, изворотлив, приспособителен. Она умеет скрывать свою натуру, представлять свое поведение в наилучшем свете и находить оправдания. Она есть добровольный оплот режима. Власти хоть в какой-то мере вынуждены думать об интересах страны. Интеллигенция думает только о себе. Она не есть жертва режима. Она носитель режима. Она есть слуга и хозяин режима в одно и то же время. Она есть продукт и творец режима.
Интеллигенция есть носитель и опора коммунистического социального строя. И одновременно она же поставляет наиболее активную часть оппозиции к строю. Это вполне нормально для исторического процесса. Борьба внутри слоев населения, являющихся опорой и носителем данного социального устройства, служит источником борьбы в обществе и эволюции его. Прочие слои населения вовлекаются в эту борьбу в силу исторической неизбежности или потребности.
В потенциальную и актуальную оппозицию к советскому режиму выталкиваются представители самых различных слоев и групп интеллигенции, не удовлетворенные своим личным положением, а отнюдь не положением больших категорий населения или «народа» вообще. Сюда могут попасть знаменитые ученые и начинающие научные работники, выдающиеся музыканты и студенты консерватории, заслуженные живописцы и бездарные мазилы… Основа для их оппозиции банальна: они считают, что их положение в обществе не адекватно их образованию, способностям, амбициям, известности, вкладу в культуру…
Эта часть интеллигенции, повторяю, впадая в оппозицию к режиму, выражает лишь свои личные интересы. Для многих из них оппозиция выгодна. Они обладают привилегиями своего положения и, вместе с тем, приобретают репутацию жертв режима. Среди таких интеллигентов бывают и настоящие борцы против язв коммунистического строя. Они – настоящие герои. Но их очень мало.
Интеллигенция уже в чеховские годы носила в себе зародыш этого своего будущего, и Чехов это чувствовал. Уже в чеховские годы русская интеллигенция была социально и идейно неоднородной. В ее среде были свои генералы и свои ретрограды (например, Серебряков в пьесе «Дядя Ваня», Петр Дмитрич в «Именинах»). Лишь часть ее («лучшие представители»), к которой принадлежал сам Чехов, обращала внимание на язвы существующего строя и на тяжелое положение простого народа (крестьян, рабочих, мелких служащих) и страдала от этого. Далеко не все русские интеллигенты того времени считали, как многие герои Чехова, что «дальше так жить нельзя», что нужно что-то делать, чтобы изменить жизнь к лучшему, что нужно служить народу, работать на благо ближних и для счастья будущих поколений. Да и в этой среде, как убедительно показал Чехов, процветали фальшь, лицемерие, самолюбование, цинизм, эгоизм, поза и прочие явления, ставшие нормой жизни интеллигенции в Советской России.
ГОМО СОВЕТИКУС
Человек гадок,– говорил один из героев Чехова. В человеке все должно быть прекрасно – мысли, поступки, внешность, одежда,– говорили другие герои Чехова, и он разделял это их желание. Но одно дело – каким человек должен быть в идеале, и другое дело – каким он является в действительности. После смерти Чехова прошло более восьмидесяти лет. В России исчезло многое такое, что современники Чехова считали источником зол и причинами, превращавшими человека в гадкое существо. Исчезла нищета в дореволюционном смысле, голод, безграмотность, мордобой и многое другое. Исчезли отношения частной собственности и власть капитала. Но человек не превратился в существо, в котором все прекрасно. Советское общество породило новый тип человека (гомо советикус), который является прямым наследником чеховских персонажей. Советские люди в большинстве своем превратились в несколько видоизмененных применительно к советским условиям хамелеонов, человеков в футляре, унтеров пришибеевых и в другие чеховские персонажи. Подчеркиваю, в подавляющем большинстве. Лишь немногим исключительным личностям удается избежать этой участи, да и то слишком дорогой ценой – ценой изломанных судеб и душевных травм. Советский человек – это исключительно гибкое существо, способное приспособиться к любым жизненным ситуациям и к любым идеям. В нем прекрасно уживаются качества лакеев и хозяев, жертв и палачей, образованных людей и невежд, отзывчивых до угодливости и равнодушных до жестокости людей, искренних и лицемерных, честных и преступных, правдивых и лживых. Причем те качества, которые Чехов изобразил в образах мелких чиновников и вообще служилых людей на низших уровнях социальной иерархии, особенно сильно развились в самой образованной и самой высокопоставленной части общества. Вся человеческая грязь, взбаламученная революцией, поднялась со дна человеческого общества на поверхность и прочно укрепилась тут. То, что Чехов считал уклонением от нравственного идеала, стало привычной нормой бытия для подавляющей части образованного и активного населения страны. Так что образование и проповедь светлых идеалов не только не уничтожили то, что делало человека гадким существом, но, наоборот, способствовали развитию людей именно в этом их качестве. Я в моих книгах дал описание гомосоветикусов в самых различных их проявлениях, вариантах и положениях. Если читатель сравнит моих героев с чеховскими, то он увидит, что чеховские герои были лишь начинающими, недоразвитыми гомосоветикусами, еще сдерживаемыми в какой-то мере соображениями морали и социальными условиями иного рода, мешавшими им во всю мощь развернуть их потенции будущих гомосоветикусов.
Чехов натолкнулся на такие человеческие отношения и обусловленные ими человеческие качества, которые воспроизводятся на самом различном материальном и культурном уровне. Советская история показала, что эти феномены возникают и на уровне заключенных в исправительно-трудовых лагерях, и на уровне зажиточных слоев населения, и на уровне высших партийно-государственных служащих. Феодальные и капиталистические отношения, порождая свою совокупность зла, служили вместе с тем ограничителями для них. Коммунистическое общество тоже развивает свои средства самозащиты от зла, порождаемого им самим, но эти средства, в свою очередь, порождают феномены жизни, достойные сатиры и юмора щедринско-чеховского типа. Писателю, идущему в русле принципов социологического реализма, не остается ничего другого, как позиция чеховского пессимизма, но в удесятеренной степени,– позиция исторического отчаяния.
НАРОД И ТРУД
Значительная часть произведений Чехова посвящена теме народа (например, «Мужики», «Степь»). При этом под народом понималось русское крестьянство, составлявшее большинство населения России. Мне эта часть творчества Чехова нравилась и нравится меньше других по двум причинам. Первая причина – судьба крестьянства в советском обществе. Хотя крестьянство в Советском Союзе пережило страшную историческую трагедию, хотя оно составляет значительную часть населения России, хотя условия его жизни еще отличаются от городских, все то, что специфически связано с крестьянством, является действительно результатом российской отсталости. Для меня интерес представляли прежде всего и по преимуществу специфически коммунистические социальные отношения, одинаковые по существу для города и деревни, проявляющиеся в деревне лишь в более уродливых и примитивных формах, чем в городе. Вторая причина – подход самого Чехова к проблемам русской деревни. Чехов изображает бедственное положение народа. Но делает это не лучше и не сильцее, чем другие писатели (Короленко, Успенский, Григорович, Горький). Народ в изображении Чехова еще выглядит как хранитель некоей «правды», как носитель неких общечеловеческих добродетелей. Чехов видел развитие капиталистических отношений в деревне, чем заслужил похвалу советских идеологов и литературоведов. Описание ужасов крестьянской жизни у Чехова меня не трогало, хотя я сам вышел из крестьян и постоянно бывал в деревне в довоенное и послевоенное время. Эти ужасы были действительно достоянием прошлого. Те ужасы, которые пережили мы сами, были совсем иного рода. Они были трудностями перелома в образе жизни, а не трудностями устоявшегося социального уклада. Они имели результатом бегство многих миллионов русских крестьян в города. Положительные персонажи «народных» произведений Чехова казались мне персонажами уходящей в прошлое русской жизни, причем – сильно романтизированными. В школе мы изучали повесть «Степь». Меня самого когда-то увозили из деревни учиться в Москву, подобно мальчику Егорушке. Но я не нашел в его размышлениях ничего общего с моими.
Тема народа («простых людей») в творчестве Чехова представлена гораздо интереснее, на мой взгляд, не как предмет непосредственного описания, а как отраженная в сознании мыслящей части общества – интеллигенции, т. е. как проблема интеллигентская. Думаю, что и самому Чехову этот аспект проблемы народа был гораздо ближе и понятнее как писателю, главной темой которого стало «писать рассуждения». Что думают и что говорят представители интеллигенции о положении народа, какие меры они предлагают с целью улучшить положение народа и что они сами делают в этом направлении,– изображение этого дает гораздо более адекватное с социологической точки зрения описание самого народа, чем прямое описание его. А главное – это служит цели развенчивания самой интеллигенции и ее народнических идеалов. Например, в рассказе «Дом с мезонином», весьма характерном для творчества Чехова, персонажи разговаривают и спорят о положении народа и о том, что нужно делать, чтобы это положение улучшить. Один из персонажей считает, что надо делать то, что в их силах, помогать мужикам. Другой персонаж считает, что эти мелкие дела не меняют положения народа, что они лишь маскируют рабство, что это – не помощь народу, а лишь игра в помощь, что такого рода «спасителей» народа интересует не народ, а лишь их собственная деятельность якобы на благо народа. Но сам этот второй персонаж развивает идеи, которые ничуть не лучше критикуемой им теории «малых дел» и либеральной благотворительности. С его точки зрения, основное зло жизни – в тяжелых условиях для большинства людей, изнемогающих от непосильного труда. Достаточно избавить людей от этого труда, как все улучшится само собой. Надо разделить бремя труда между всеми поровну. Этот персонаж высказывал популярные в то время призывы к обращению интеллигенции к земледельческому труду, захватившие Толстого и даже Горького. Но реальная жизнь нанесла жестокий удар по этим идеям, и сам сторонник их в чеховском рассказе разочаровался в них.
Чеховский сторонник равномерного распределения физического труда высказал идею, что люди должны работать лишь три часа в день, отдавая остальное время наукам и искусствам. Тут он явно смыкался с коммунистами, включая коммунистов марксистского толка. Вздорность этой идеи была очевидна Чехову еще задолго до осуществления коммунистических идеалов в России. Советский поэт Владимир Маяковский выразил эту идею в двадцатые годы такими словами о крестьянском труде: «землю попашет, попишет стихи». Для нас, школьников, это было предметом насмешек.
Интересно, что занятия наукой и искусством чеховские персонажи не считают трудом. Все они работают в нашем смысле как врачи, инженеры, учителя, офицеры, служащие и т. д., а говорят о необходимости работать. Эта тема особенно сильно выражена в пьесах Чехова. Человек должен трудиться,– говорит один из персонажей «Трех сестер»,– лишь в этом смысл, цель и счастье его жизни. Через двадцать пять – тридцать лет работать будет каждый человек,– говорит другой персонаж пьесы. Мы должны только работать и работать,– говорит третий.
Для чеховских персонажей идея всеобщего труда такая же интеллигентская идея, как и идея служения народу. Труд хорош только в разговорах. Начав трудиться, чеховские герои либо разочаровываются в этом, либо осуществляют свои красивые замыслы где-то за страницами чеховских произведений. Они в таких случаях как раз оканчиваются тогда, когда нужно показать реальность намерений. В «Вишневом саде» герои грозятся посадить «новый сад», но получилось ли у них что-либо из этого, остается без ответа. Чехов был слишком реалистичным писателем, чтобы долго и настойчиво держаться иллюзий своих героев.
В советском обществе идея всеобщего труда осуществилась на деле. Но эта реальность ничего общего не имеет с абстрактным идеалом чеховских героев. Здесь трудом стала любая человеческая деятельность, официально признанная обществом и законодательством,– деятельность чиновников, солдат, офицеров, писателей, художников, врачей, сотрудников КГБ и т. д. и т. п. Здесь труд стал всеобщей обязанностью в том смысле, что каждый работоспособный гражданин должен быть прикреплен к какому-то учреждению и предприятию. Здесь лица, уклоняющиеся от труда в этом смысле, считаются преступниками. Однако это не устранило проблем, мучивших чеховских героев.
ПРОБЛЕМА ТИПИЗАЦИИ
В связи с темой «народа» в творчестве Чехова я задумался над проблемой создания индивидуальных типических образов целых социальных категорий людей. Почему, например, у Чехова получились потрясающе выразительные и яркие типические образы служилых людей, но не получились аналогичные образы представителей «народа»? Думаю, что дело тут не столько в индивидуальных способностях и склонностях писателя, сколько в характере самих изображаемых явлений и в их социальной роли. Не все в реальности вообще годится для литературы. В жизни происходит много такого, что не дает пищу для литературы. Литература вообще выборочна. И не все в реальности по самой своей природе годится для литературной типизации. При изображении массовых явлений литература должна прибегать к другим средствам, а именно – вводить в произведение более или менее большое число персонажей, каждый из которых по отдельности не может быть типичным образом всей массы людей. А порою писатель вообще вынуждается почти что на социологический анализ данной массы людей как сложного, разнообразного и внутренне дифференцированного целого. В классический русской литературе это можно видеть в произведениях Достоевского «Братья Карамазовы» и «Бесы», а также в романе «Война и мир» Толстого. В советской литературе классическим образцом такого явления в литературе может служить «Тихий Дон» Шолохова. Именно такой литературный феномен я усматриваю в сочинениях Чехова о «народе». В них главный интерес представляют не образы представителей «народа», а социологический аспект «народной» жизни, разрушение представлений о «народе» как о чем-то едином целом и однородном, разрушение иллюзий в отношении «народа» и надежд на него, более того – разрушение представлений о «народе» как об объекте приложения сил представителей образованных слоев, жаждущих блага «народу». «Народ,– говорит один из героев Чехова,– это все те, кто живет еще хуже нас». Понятие «народ» уже в чеховские годы утратило смысл социальной категории. А в советских условиях оно вообще превратилось в идеологическую пустышку.
Я с проблемой типизации в случае массовых явлений столкнулся как писатель, работая над книгой «Желтый дом». В этой книге мои персонажи, подобные чеховским интеллигентам, задумываются о положении рабочих. Ужас этой жизни обнаруживается в полной мере тогда, когда ее начинаешь изучать методами, адекватными ей. Что за методы? Чтобы ее понять, бессмысленно самому становиться рабочим, ходить по заводам, подсматривать за рабочими семьями и забегаловками. Надо применять методы современной социологии. Надо рассматривать эту жизнь как массовое явление. А это – цифры, проценты, величины. Например, пятьдесят процентов рабочих мужчин пьют систематически, восемьдесят процентов так или иначе выпивают. Такой-то процент попадает под суд. Такой-то процент совершает хулиганские поступки и мелкие кражи, наказуемые административными мерами. В таком же духе можно проанализировать и измерить содержание разговоров рабочих и их мечты, семейные ссоры и т. п. Ужас тут состоит не в том, что цифры будут устрашающие – интеллигенция и служащие пьют не меньше рабочих, ссорятся в семьях тоже не меньше и законы нарушают довольно часто. Ужас состоит в том, что жизнь рабочих на самом деле, а не только с точки зрения способа ее понимания, есть массовое явление. Она не индивидуализирована. Она есть нечто индивидуализированное только как масса неиндивидуализированных жизней. Трясина не имеет структуры. Вот в чем дело. И потому люди, инстинктивно стремящиеся остаться людьми, т. е. индивидуализированными существами, стремятся выбраться из этой трясины. Те, которым это не удается профессионально, стремятся как-то компенсировать это обезличивание – в семье, в кругу родственников и знакомых, садово-огородные участки и дачи, спорт. При этом функции их как рабочих становятся лишь средством для иной жизни. Но полностью отвлечься от них невозможно, ибо это есть нечто большее, чем средство жизни: это есть социальное положение, т. е. образ жизни, дающий знать о себе повсюду.
Работая над книгой «Желтый дом», я столкнулся и с другой проблемой: почему у’Чехова не получились положительные персонажи из «народа», сопоставимые по яркости и выразительности с персонажами отрицательными? Один из разделов моей книги был посвящен положению в советской деревне, и проблема эта приобрела для меня принципиальное значение. Тогда я пришел к выводу, что положительные литературные персонажи не столько отражают положительные явления в реальности, сколько выражают положительные идеалы авторов в отношении совсем не положительной реальности. Классический образец этому – ситуация со второй частью «Мертвых душ» Гоголя. Чехов, будучи социологическим реалистом, просто не мог создавать фальшивые образы неких положительных представителей «народа».
Когда я писал раздел «Желтого дома» о деревне, отрицательным примером положительного образа человека из «народа» для меня была Матрена из рассказа Солженицына «Матренин двор». Я хорошо знал положение в деревне, и образ солженицынской Матрены показался мне фальшивым, «высосанным из пальца». В Советском Союзе каждое лето масса людей из городов посылается на уборочные работы в деревню. Посылался и я таким образом неоднократно. В моей книге я описал одну из таких поездок в колхоз. При этом я противопоставил солженицынской положительной Матрене мою юмористически-сатирическую «Матренадуру», которая, в чем я убежден, именно в своей реалистической отрицательности адекватна нынешнему состоянию русской деревни. Я делал описание моей героини по-чеховски, т. е.»путем описания восприятия ее московским интеллектуалом, работавшим в колхозе.
МАТРЕНАДУРА
Зовут нашу хозяйку Матреной-Дурой, или, короче, Матренадурой. Матрена – это ее собственное имя, а дура – это роль, которую она играет в обществе. Играет вполне успешно. Она так много лет играла ее, что на самом деле стала непроходимой дурой и вместе с тем ужасающе хитрой и ноюще-добро-злобной тварью. Потому ее и зовут все Дурой. А поскольку все прочие жители деревни считают себя дураками, к ее родовому имени Дура прибавляют ее видовое отличие Матрена. Но и это еще не все. Матрен в округе – пруд пруди. И все они, естественно, дуры. Поэтому когда возникает путаница, жители говорят про нашу Матрену, что это – та самая, наблюдая которую Великий Писатель возымел надежду, что именно она спасет нашу матушку-Россию. От кого спасет? Для чего спасет? Какую Россию? Живо воображаю себе такую сценку. Матрена крутится у печки. Писатель с восторгом смотрит на нее и умоляет ее спасти Россию. «Пошел ты на… со своей Россией! – говорит она в ответ.– У меня тут из-за твоей болтовни молоко убежало».
Не берусь судить насчет будущего, но пока эта Матрена со слезами восторга и умиления реагировала на изгнание Великого Писателя из России и рассказывала о нем представителям органов госбезопасности такое, чего не мог бы вообразить он сам. В частности, она сообщила, что Писатель вел себя неправильно, когда ходил на двор (на ее, Матренин двор!), и никогда не признавался в этом. Отмечаю в этой связи первое качество «простого народа»: готовность оказать услугу всякому, кто у него ее попросит. Если, конечно, просящий есть превосходящая его сила. Если же она почувствует хоть какое-то превосходство над собеседником, она преображается мгновенно. И тогда весь ее вид и каждое ее слово выражают величайшее, космическое презрение небесного существа к ничтожной земной твари. Мы это не раз испытывали на своей шкуре, когда кидали навоз не в то место, какое она указывала, или слишком кривили пилу во время пилки ее дров.
Матренадура воплощает в себе все лучшие черты советского народа, и прежде всего – его верность идеалам и несокрушимую принципиальность. А последняя для нее выражалась в четкой марксистской формулировке: кому давала, тому и подпевала. Когда она спит с Комиссаром, она целиком и полностью поддерживает генеральную линию партии, осуждает диссидентов, евреев и китайцев, поддерживает коммунистов Чили и Эфиопии и верит в то, что у нас самый высокий жизненный уровень на Земле. Когда она спит с кем-нибудь из нашей молодежи, она сама становится оголтелым диссидентом, поносит высшее руководство, хвалит американского Президента и Израиль, осуждает арабов, негров и китайцев (китайцев она осуждает при всех обстоятельствах). Оставшиеся ночи она отдыхает, т.е. храпит на всю деревню, проявляя полное равнодушие ко всему на свете, кроме своего крошечного хозяйства. За последнее она готова пожертвовать всем на свете – марксизмом, партией и правительством, диссидентами, американским Президентом, неграми, евреями, арабами и китайцами. Упомянутыми народами она готова пожертвовать и без своего хозяйства, просто так, по доброте душевной и из чувства справедливости.И не такая уж она, между прочим, дура. Помимо коровы, поросенка, клопов, тараканов и прочей живности она имеет телевизор, мотоцикл и транзисторный приемник. Приемник и мотоцикл остались от сына, которого призвали в армию и, кажется, направили в какое-то спецучилище. Мотоциклом она, естественно, не пользуется. Он стоит в нашем сарае. Но она нам запрещает его трогать. Ценная вещь! А мы ее мигом поломаем! Зато приемник она гоняет вовсю. Слушает все враждебные «голоса» – здесь их все слушают, поскольку здесь легко ловить (и совсем не глушат). И интересно, конечно. Вот, мол, сволочи, про нашу жизнь правду-матку режут! Ведь все истинная правда! Откуда только они узнают все это?! Диссиденты, конечно, сообщают через ЦРУ! В свое время наша Матрена окончила девять классов и даже пыталась поступить в кожевенный техникум, но считает себя малограмотной. «Мы что,– любит она говорить,– мы малограмотные. Десятилетка? Смех один. Это же не Москва! Одно название, что десятилетка. Это в Москве всяких там абасракцианисов и прочих сианисов учат. А у нас – земля, навоз!» – «Насчет навоза вы преувеличиваете»,– возражаем мы. «Ну, удобрения,– не сдается она.– Какая разница? Все одно вонь. Одна только вонь кругом, и больше ничего!» – «В этом году,– возражаем мы,– вроде бы неплохой урожай».– «А толку что! – громит она наши аргументы.– Все одно пропадет. Сгниет. Разворуют!»
ТЕМА БУДУЩЕГО
В конце XIX и в начале XX века Россия жила с сознанием неизбежности преобразований. Духовная атмосфера мыслящей России была перенасыщена идеями преобразований. Чехов отразил это в своем творчестве: «Дальше так жить нельзя»,– говорили его герои. Но вместе с тем поражает неадекватность чеховской реакции на этот, главный в те годы, аспект общественной жизни России. В повести Чехова «Рассказ неизвестного человека» появляется персонаж, близкий к кругам революционеров (к террористам). Но он выписан так по-чеховски, что в нем мало что осталось от «революционности». И еще меньше в творчестве Чехова отразилась тема будущего, являющаяся естественной частью темы «дальше так жить нельзя», «нужно что-то делать». Чеховские персонажи, естественно, высказываются о будущем и мечтают о нем. Эти высказывания довольно разноречивы, порою противоположны. Причем в них трудно провести грань между тем, что они говорят с уверенностью, и тем, что они высказывают как пожелание. Так что из этих высказываний невозможно извлечь какую-то более или менее определенную концепцию будущего России.
Вот несколько высказываний чеховских героев о будущем. В рассказе «Случай из практики» один из персонажей говорит, что в будущем, может быть, уже близком, жизнь будет светлой и радостной. Советская пропаганда использовала это как предвидение «светлой и радостной» жизни в советском обществе. «Через двести-триста лет,– говорит герой «Трех сестер», которого критика часто отождествляла с самим Чеховым,– жизнь на Земле будет невообразимо прекрасной. Может быть, через тысячу лет,– дело не в сроке, настанет новая, счастливая жизнь. И мы сейчас для нее живем, работаем для нее, творим ее». «Воссияет заря новой жизни»,– говорит персонаж из «Палаты № 6». Но вместе с тем другие персонажи из тех же произведений говорят, что жизнь останется все та же, что и через миллион лет жизнь останется такою же, как и была, что она остается постоянною, следуя своим собственным законам, что суть вещей не меняется, что жизнь вообще есть «досадная ловушка». «Говорят, что правда восторжествует,– пишет Чехов в записных книжках,– но это неправда». Короче говоря, позволяя своим героям высказать надежды на светлое будущее, Чехов охлаждает их восторги трезвыми и жестокими сомнениями.
Чувствуя иллюзорность и даже лицемерность призывов к труду на благо ближнего, чеховские герои прибегают к другой уловке: говорят о необходимости трудиться для будущего, для потомков. В записных книжках Чехова можно найти такую запись: «Если вы будете работать для настоящего, то ваша работа выйдет ничтожной; надо работать, имея в виду только будущее. Для настоящего человечество будет жить только разве в раю, оно всегда жило будущим». Поскольку в записных книжках Чехов записывал мысли своих будущих персонажей, эту запись вряд ли можно считать личным убеждением Чехова. Лозунг жить для будущих поколений, для потомков есть самообман и обман живущих сейчас. Потомки уже через два-три поколения становятся чужими нам, живущим сейчас. Работать для них – это все равно как работать для тех, кто уже сегодня принадлежит к благополучным слоям населения. Это – лозунг благополучных, навязываемый обездоленным, а в лучшем случае – игра благополучных в заботу о благе обездоленных.
Конечно, во всем этом играли роль цензурные ограничения и слабое знакомство с теми кругами общества, для которых тема преобразований и будущего становилась делом жизни. Но дело тут, по-моему, не только в этом. Сейчас, когда то, что было будущим в чеховское время, стало настоящим и все потенции того будущего реализовались, на эту ситуацию можно посмотреть иначе. Не все то, что происходило в стране, осознавалось живыми участниками событий. Не все то, что осознавалось, выходило на страницы печати и становилось всеобщим достоянием. Выдвигая программы преобразований, люди не могли или не хотели предвидеть их отрицательные последствия. Одно дело – создать картину светлого будущего и пообещать его. И другое дело – что такое будущее как объективная реальность. Будущее в этом смысле есть лишь реализация потенций настоящего. Будущее общества образуется не из фантазий людей, а из элементов настоящего. Причем оно образуется по определенным объективным законам организации жизни больших масс населения. Будущее – это то, что имеет перспективы и возможности, но такие, которые ограничены историческими условиями и самими этими феноменами, имеющими перспективы в будущем. Будущее не фатально, но и не произвольно. Я уже выше говорил о том, какие элементы русского общества имели шансы на будущее. И люди, жившие в России в то время, так или иначе отражали в себе или хотя бы смутно ощущали будущее страны. Были восторженные мечтатели. Были революционеры и реформаторы. Но были и консерваторы, и скептики,-и люди со здравым смыслом, и провидцы. И все они вносили свою лепту в духовную жизнь страны. Я думаю, что это как-то отразилось в сознании и настроениях Чехова, а именно так, что он стал человеком «без мировоззрения». А это, как остроумно доказал еще тургеневский герой Рудин, есть тоже своеобразное мировоззрение.
Чехов не занимался социологическими предсказаниями и не выдвигал политических программ. Он полностью игнорировал социалистический идеал будущего. Конечно, он мечтал о будущем счастливом, благополучном человеческом обществе. Но кто об этом не мечтал?! Это была лишь мечта, причем – не оригинальная и совершенно не существенная для творчества Чехова. Тема будущего у него играла роль предлога поговорить о настоящем. Причем говорили чеховские герои на эту тему так, что никакой оптимистической надежды на это «светлое» будущее не возникало. Я сомневаюсь в том, что после прочтения чеховских произведений и просмотра пьес, в которых что-то говорилось о будущем, люди становились просветленными или хватались за оружие с намерением приблизить это будущее. Насколько мне известно, доминирующим было именно впечатление пессимизма. Многие писали о «просветленности» и о «надеждах». Но я думаю, что это было интеллигентским лицемерием. Я уж не говорю о лицемерии советских литературоведов.
Пессимизм или по крайней мере отсутствие большого энтузиазма у Чехова в отношении будущего имеет корни в том социологическом факте, что он уже жил в «светлом» будущем и понимал его лучше, чем кто бы то ни было другой в его время. Кстати сказать, у Чехова можно найти немало высказываний его героев об упрямстве, неподатливости законов бытия, неподвластных благим намерениям реформаторов.
Я в моих книгах неоднократно использовал тему будущего по-чеховски, т. е. как литературный прием поговорить о настоящем и выразить состояние исторической бесперспективности. В «Зияющих высотах», например, о будущем «полном коммунизме» разговаривают образованные солдаты (интеллигенты), оказавшиеся в армии, да к тому же в военной тюрьме. Они чистят солдатский сортир и при этом ведут беседу о «высоких материях». Но о каких и как! При коммунизме,– сказал один из них,– тюрем не будет, еды будет достаточно, к женщинам будут отпускать раз в неделю. Другой назвал этот подход потребительским. На самом деле,– сказал он,– при коммунизме высокого уровня достигнет сознательность, чтобы люди не ели по две порции. Третий сказал, что тогда будут введены научно разработанные нормы потребностей. Приходит рядовой гражданин в учреждение нормирования потребностей, сдает десяток справок с печатями, заполняет анкету и получает талончики на сапоги, обмундирование, хлеб и кашу. На каждом углу будут выставлены котлы с картофельным пюре,– сказал мечтательно четвертый,– ешь, сколько хочешь. Каждый будет выбирать себе занятие по вкусу,– сказал пятый.– На первых порах будут сочетаться обязательные занятия с добровольными. Ты,– развил эту идею далее шестой,– будешь восемь часов чистить сортир, а в остальное время будешь генералом-любителем. Только не известно, будут ли при этом добровольцы чистить сортиры и добровольцы солдаты для генералов по обязанности. Кто-то сказал, что армия отомрет, и генералов не будет. Вот в таком духе вяло тянется дискуссия, являющаяся сатирой на советскую реальность и на марксистский идеал будущего, в который никто не верит. Дискуссия прекращается сама собой от наступившей скуки. Мне кажется, что и дискуссии чеховских персонажей сами собой вырождаются во всеобщую скуку для этих персонажей. И от этой скуки их не спасают восторженные восклицания насчет того, чтобы «насадить новый сад» или «увидеть небо в алмазах»,– они сами в это не верят.
ПРОБЛЕМА РАВЕНСТВА
Одним из аспектов проблемы будущего в дореволюционной России была проблема фактически существовавшего неравенства людей и его устранения в будущем идеальном общественном устройстве. Считалось само собой разумеющимся, что неравенство есть зло, а равенство есть добро. Чеховские герои отдали дань всеобщему увлечению. Но надо отдать должное Чехову, и в этом вопросе он проявил удивительную для того времени трезвость и сдержанность. Наряду с утопическими идеями на этот счет в речах его героев можно заметить и скептицизм. «Равенство людей,– записал Чехов в записной книжке,– в реальной жизни невозможно. Если оно и возможно, то только на том свете, в раю. Самое большее, что можно сделать на этом свете, это – сгладить неравенство». Трудно сказать, кому Чехов собирался вложить в уста это заявление,– положительному или отрицательному персонажу. Впрочем, грань между этими персонажами у Чехова относительна и подвижна. Выше я уже писал об идее одного из героев рассказа «Дом с мезонином» распределить труд поровну между всеми. Но идея эта оказалась вздорной. Чехов прекрасно понимал, что уже в современном ему обществе имело место разнообразие форм деятельности людей и их социальных позиций. Кроме того, он видел природные различия людей и различия в их индивидуальных судьбах, независимые ни от какого (плохого или хорошего) социального строя.
Чехов видел неравенство людей, порождаемое феодальными и капиталистическими социальными отношениями. И на это обращали наше внимание школьные учителя, университетские профессора и советские литературоведы. А тот факт, что неравенство людей порождается также и самими коммунистическими социальными отношениями, это открытие мне пришлось сделать самому, причем – вопреки всем и вопреки всему. Трудно сказать, когда это убеждение оформилось в моем сознании вполне отчетливо. Не исключено, что какую-то роль в этом сыграли наши дискуссии в послевоенные годы в студенческих компаниях и неофициальных «домашних» группах. Однако в них тогда не так-то много можно было сказать. Помню, как однажды речь зашла о равномерном распределении труда, в том духе, в каком об этом говорил один из персонажей Чехова в рассказе «Дом с мезонином». Я высмеял слова Маяковского насчет «землю попашет, попишет стихи». Кто-то донес на меня, и меня вызвали для беседы в Московское управление Государственной безопасности. Меня спасли лишь мои военные заслуги и шутливый тон. Вскоре судьба посмеялась надо мною: во время каникул меня послали на работу в колхоз, где я делал стенные газеты, для которых сочинял стихи. Мне еще повезло: я избежал лагерей строгого режима, в которых идеал «землю попашет, попишет стихи» сполна реализовался для многих русских поэтов и писателей, включая Мандельштама.
Интересно то, как вообще изменилась судьба всех «светлых» идеалов прошлого насчет будущего общества всеобщего равенства и справедливости в том самом осуществившемся будущем. Больше всего в прошлом людей привлекала не идея всеобщего материального благополучия и изобилия («по потребности»), а идея социального и экономического равенства. Изобилие и благополучие – явления относительные. Если бы русским людям в конце XIX века рассказали, как они будут жить материально в шестидесятые и семидесятые годы нашего века, они не поверили бы в это. У таких людей, как я, в тридцатые годы протест вызывало не столько то, что мы сами и близкие нам люди жили плохо, сколько то, что другие люди, отнюдь не превосходящие нас и наших близких по каким-то положительным качествам, жили хорошо сравнительно с нами. Протест вызывало очевидное и все возрастающее материальное неравенство людей, что вступало, как нам казалось, в вопиющее противоречие с идеей коммунистического равенства.
Прошли годы, и советские люди на практике убедились в том, что равенство людей осуществимо, как предсказывал Чехов, лишь на том свете. Чехов не знал того, что и на том свете равенства нет: в Советском Союзе установилась даже иерархия похорон и захоронений. Коммунизм действительно устраняет капиталистическую и феодальную формы социального и экономического неравенства, имевшие место в прошлом. Но он создает условия для расцвета одной формы неравенства – специфически коммунистической. Эта форма неравенства обладает одной особенностью, которая обрекает на отчаяние каждого, кто хочет бороться против нее. Борьба за равенство в условиях коммунизма может быть успешной только путем укрепления неравенства. Эта борьба имеет неизбежным следствием углубление, упрочение и усиление неравенства. Причина этого, казалось бы, парадоксального явления – естественность и абсолютная необходимость (иеустранимость) коммунистического неравенства.
Сказанное не следует понимать так, будто я приветствую коммунистическое неравенство и призываю к его усилению. Я вырос и сформировался идейно и психологически с протестом против социального и экономического неравенства. Я и сейчас вижу основной источник зол в нем. Я и сейчас считаю, что человек становится гадким существом вследствие этого неравенства. Но, как шутят советские интеллектуалы, пессимист есть лишь хорошо информированный оптимист. Я не надеюсь даже на то, что со временем степень неравенства людей в коммунистическом обществе будет снижаться, т. е. неравенство будет сглаживаться. Я уверен, что оно будет возрастать и обостряться. И потому передо мною, как и перед чеховскими героями, уже в юности встала проблема смысла (целей, идеалов) жизни.
ПРОБЛЕМА СМЫСЛА ЖИЗНИ
Проблема смысла жизни вообще, как мне кажется, есть проблема в самой основе своей пессимистическая. Когда впереди не светит ничего хорошего, то думающему и страдающему человеку не остается ничего другого, как найти выход из безвыходного положения в себе самом и в определенной организации своего собственного поведения.
Многие чеховские герои жалуются на бесцельность и бессмысленность уже прожитой или текущей жизни, на отсутствие идеалов. Особенно сильно, как мне кажется, этот мотив выражен в пьесе «Дядя Ваня». Хотя финал пьесы по форме выглядит оптимистически, однако такой «оптимизм» похуже любого пессимизма. Приведу слова героини пьесы: «будем терпеливо сносить испытания, какие пошлет нам судьба; будем трудиться для других и теперь, и в старости, не зная покоя, а когда наступит наш час, мы покорно умрем и там за гробом… увидим жизнь светлую, прекрасную». Это уже не просто пессимизм. Это – отчаяние беспредельное. «Мы отдохнем!» – такими словами заканчивается пьеса. Причем имеется в виду «отдых» после смерти.
Должен сказать, что роль большого писателя проявляется не только в том, что его идеи и образы вызывают одобрение читателя, но и в том, что они вызывают протест. Чеховский «Дядя Ваня» (а отчасти – и другие пьесы) вызывал у меня в свое время не просто протест, но даже гнев. Лучше впустую промотать физические и душевные силы, чем терзаться мыслями о бесцельно прожитых годах и утешать себя покоем ( «небом в алмазах» ) после смерти. Я с юности был за бунт. Пусть бессмысленный, иррациональный, нелепый, безнадежный, безрезультатный бунт, но все-таки бунт. Жизнь все равно промчится мгновенно. С точки зрения вечности нет никакой разницы, прожил ты двадцать лет или сто. Качество жизни, думал я, определяется тем, в какой мере ты сумел восстать против своего окружения, против своего общества, против всего хода истории, против всей Вселенной. Чеховские интеллигентные герои при всех Их страданиях принадлежали к сравнительно благополучным слоям общества. Их страдания казались мне салонными. Надуманными «страданиями» людей, живущих в таких условиях, о которых я и мечтать не смел для себя. Я же был на самом дне житейской помойки. Для меня все было враждебно и все оборачивались врагами. Моя идеология бунта была порождена безнадежностью и отчаянием, запредельными для мыслящего существа.
Мне все казалось извращенным. На сцене красивые и хорошо одетые артисты произносили красивые речи об испытаниях, о труде на благо общества, о небе в алмазах. А мне на долю выпали испытания, о каких чеховские интеллигенты и помыслить не могли. Я на самом деле работал в поте лица во имя блага общества и будущих поколений. И «небо в алмазах» мне не светило и после смерти. Когда же я сам стал писателем, различия между моей личной судьбой и судьбой чеховских героев стали выглядеть для меня как различия чисто литературные. И разница между чеховским отдыхом за гробом и моим бунтом при жизни стала казаться уже не столь значительной, а то и вообще явлениями однопо-рядковыми. Я пришел к выводу, что мучительные поиски чеховскими героями цели («правды») жизни суть лишь стремление компенсировать недостатки реальной жизни и как-то оправдать плохо прожитую жизнь. В книге «Живи», которую я написал уже в 1982 году, но по ряду причин не опубликовал до сих пор[1]мои персонажи столкнулись с проблемой жизни как с проблемой идейной и психологической самозащиты в условиях, когда они бессильны изменить общественный порядок. Они, как мне кажется, являются с этой точки зрения наследниками персонажей Чехова.
ПРОВИНЦИАЛИЗМ РУССКОЙ ЖИЗНИ
В пьесе Чехова «Три сестры» три молодые женщины, выросшие в Москве и получившие хорошее по тем временам образование, волею обстоятельств оказались в маленьком провинциальном городишке. Они мечтают о том, чтобы вырваться из болота провинциальной жизни обратно в Москву. Москва им представляется светлым идеалом. Однако если внимательно вчитаться в пьесу Чехова, можно заметить, что сам он не разделял мнение своих героев о Москве как об идеале. Не случайно один из героев пьесы сказал сестрам, что они не будут замечать Москвы, когда будут жить в ней. И он имел для этого достаточные основания.
Подавляющее большинство событий в произведениях Чехова происходит в провинции. Насколько мне известно, никто из литературоведов не придавал этому факту принципиального значения. И другие русские писатели избирали местом действия своих произведений провинцию, так что следование Чехова этой традиции выглядело как нечто само собой разумеющееся. Может быть, Чехов действительно не выделяется из русских писателей в этом отношении. Но тот факт, что русская классическая литература была по большей части литературой о провинциальной жизни в России, заслуживает особого внимания.
Причина внимания Чехова к провинциальной жизни заключалась вовсе не в том, что он лучше знал провинциальную жизнь, чем столичную. Причина заключалась в том, что провинциализм стал вообще доминирующим образом жизни русского общества. Чехов был писателем провинциализма русской жизни, по не провинциальным писателем. Он был писателем столичным, презиравшим провинциализм и страдавшим от него. Но он был таковым в эпоху, когда столицей русского общества вновь становилась Москва. А в этом заключалось неразрешимое противоречие. Поясню, в чем тут дело.
Слово «провинциализм» неоднозначно. Есть провинциализм как отсталость, недоразвитость провинции сравнительно со столицей. Провинциализм в этом смысле может стать явлением преходящим, исчезающим. В провинции могут развиваться все аспекты жизни людей так, что она постепенно подтягивается до уровня столицы. И есть провинциализм как образ жизни, который не исчезает с подтягиванием провинции до уровня столицы, а, наоборот, крепнет и расширяется, подчиняя себе и столичный образ жизни. В этом смысле провинциализм есть явление не просто историческое, но социологическое.
Не берусь судить о том, в какой мере провинциализм во втором из упомянутых смыслов можно рассматривать как явление универсальное. Но для России с ее просторами и резким различием между крупными городами («столицей») и прочими населенными пунктами («провинцией») он был частью ее образа жизни и сохранился в этой роли до сих пор. В провинции объективные законы социальных отношений и порожденного ими образа жизни действуют особенно сильно, откровенно цинично, почти безо всякой маскировки. Они здесь порождают феномены, которые со столичной точки зрения кажутся отклонениями от неких норм бытия, хотя на самом деле являются именно чистыми продуктами этих норм. В столице действие объективных социальных законов может быть завуалировано массой институтов и изобретений цивилизации, порождая иллюзию некоего светлого общества без очевидных в провинции зол бытия. В чеховские годы в России происходил, несмотря ни на что, культурный прогресс. И происходил он прежде всего в «столице» (в крупных городах), постепенно растекаясь по провинции. Однако одновременно происходила социальная эволюция русского общества, которая привела в конце концов к победе провинциализма над столичностью – к победе провинциализма социально-исторического.
Коммунистическая провинциальность есть воинствующая провинциальность, буйствующая самодовольная бездарность, одуряющая скука, поглощающая все прочие краски серость. Здесь все до такой степени серо и уныло, что становится даже интересно. Это особая интересность, чисто негативная, разъедающая, лишающая воли к действию и желания действовать. Здесь отсутствие всего того, что делает человека личностью, достигает чудовищных размеров и становится ощутимо положительным. Оно здесь культивируется и прогрессирует. Здесь бездарность есть не просто отсутствие таланта, но наличие наглого таланта душить талант настоящий. Здесь глупость есть не просто отсутствие ума, но наличие некоего подобия ума, заменяющего и вытесняющего ум подлинный. Цинизм, злоба, подлость, пошлость, насилие здесь пронизывают все сферы человеческого бытия. И центром, источником и символом коммунистического провинциализма стала Москва.
Чеховские героини стремились в Москву. В Москву стремятся и многие миллионы советских людей. Стремятся по той простой причине, что в других местах еще хуже. В Москве много возможностей пристроиться к лучшей жизни и сделать карьеру. Каналы карьеры здесь неисчислимы. Здесь с продовольствием лучше, чем во многих других местах. Здесь есть виды деятельности, каких нет нигде. Здесь Запад ближе, культуры больше. Здесь свободнее в смысле разговоров. Здесь можно делать такое, что запрещено в других местах.
В Москве в принципе есть все современные блага жизни, и к ним, естественно, тянутся люди. Но чтобы пробиться к этим благам, надо вести такой образ жизни, что вся кажущаяся яркость, динамичность и интересность жизни оказываются иллюзорными и постепенно пропадают, уступая место серости, пошлости, скуке, бездарности… Человеческий материал, наслаждающийся жизнью в Москве, отбирается и воспитывается по законам коммунистического образа жизни так, что о наслаждении жизнью тут приходится говорить исключительно в примитивном и в сатирическом смысле. Московское наслаждение жизнью в большинстве случаев и в целом достигается ценой полного морального крушения и приобщения к мафиозному образу жизни.
«ПАЛАТА № 6»
Повесть «Палата № 6» занимает в творчестве Чехова особое, исключительное место. Мысль Чехова о противоестественности существующего социального строя выражена в ней с предельной силой. В повести умные и высоконравственные люди попадают в сумасшедший дом, а глупцы и подлецы господствуют в обществе за пределами сумасшедшего дома. Написанию повести, естественно, предшествовала подготовительная работа и размышления. На два обстоятельства этого периода хочу обратить внимание. Первое – знакомство Чехова с конкретным материалом, который был использован в той или иной форме при написании повести. Еще в конце восьмидесятых годов был опубликован отчет о состоянии русских психиатрических заведений. Чехов тщательно изучил этот отчет. Кроме того, Чехову было хорошо известно состояние тюремных лазаретов Сахалина (описание их Чехов дал в книге «Остров Сахалин»). Не исключено, что Чехову было известно состояние Таганрогского сумасшедшего дома. Второе обстоятельство – интерес Чехова в эти годы к сочинениям Марка Аврелия и Шопенгауэра, которые, но мнению чехововедов, нашли отражение в рассуждениях героев повести Чехова. Так что повесть есть не просто плод фантазии, а результат работы автора на высоком уровне образованности и информированности.
Каковы были конкретные намерения Чехова, об этом трудно судить категорически. Важно в конце концов не столько то, что хотел сказать автор, сколько то, что сказалось на самом деле, и может быть – помимо его воли. Но одно бесспорно, желание одного из героев повести, чтобы общество осознало свои недостатки и ужаснулось, в повести реализовалось с огромной силой. Повесть произвела колоссальное впечатление на современников. Ни одно произведение Чехова не имело такого быстрого, непосредственного и широкого успеха, как повесть. Для многих современников Чехова он вообще стал автором «Палаты № 6». Критики и читатели истолковывали повесть самым различным, зачастую – взаимоисключающим образом. Мне больше всего импонирует оценка повести, данная другим великим русским писателем – Лесковым. «В „Палате № 6″,– писал Лесков,– в миниатюре изображены общие порядки в стране. Всюду – палата № 6. Это – Россия».
По воспоминаниям Лескова, Чехов сам признался ему, что не думал того, что написал. Возможно, это верно. Но лишь отчасти. Литературное произведение может превзойти по значению субъективные замыслы автора. Но это не значит, что оно появляется в такой роли случайно. Сама идея написать такой рассказ является вполне логичной для Чехова с его взглядами на мир и его отношением к нему. Если встать на позиции нравственного идеала человеческой жизни и человеческих отношений, то, при условии высокоразвитого чувства сострадания к несчастным и обездоленным, при условии болезненно чуткого отношения к жестокостям и несправедливостям бытия, ко лжи, фальши, лицемерию, пошлости и подлости, существующие социальные отношения и обычное социальное поведение людей с необходимостью должно представиться как нечто противоестественное, как уклонение от неких «подлинно человеческих норм», как всеобщее сумасшествие. И тогда сумасшедший дом вполне понятным образом мог стать литературной «моделью» здорового общества.
Я к аналогичной «модели» советского общества пришел на основе анализа нормального, здорового общества, имея в качестве предпосылки точно так же несоответствие реальности тому складу моей личности, какой получился в результате восприятия самых светлых и чистых идеалов человечества, которые нам преподносили в контексте коммунистического воспитания. После опубликования «Зияющих высот» я задумал большую книгу, действие которой должно было происходить в ультрасовременном сумасшедшем доме, вернее – в научном учреждении, занятом изучением особого рода сумасшествий, а именно – сумасшествий социологического и политического характера. Я начал собирать материалы для будущей книги и написал довольно много страниц для нее. Но обстоятельства сложились так, что работу над книгой пришлось прекратить. Я ожидал ареста и по крайней мере высылки из Москвы. Все рукописи пришлось частично спрятать, частично переслать на Запад. Из попавших на Запад кусков была скомпонована книга «В преддверии рая», которая является скорее литературным архивом, чем законченным литературным произведением. После эмиграции я не имел возможности доработать эту книгу. Зато я закончил начатую еще в Москве книгу «Желтый дом», в которой я реализовал в литературной форме одну часть того замысла, который мне не удалось завершить в книге «В преддверии рая».
У меня был некоторый опыт работы с сумасшедшими. Но он был совсем не медицинский и не социологический. После окончания аспирантуры в Московском университете я волею счастливого случая попал в Институт философии Академии наук. Там в течение нескольких лет одной из моих обязанностей была работа с сумасшедшими, которые в большом количестве осаждали гуманитарные учебные и исследовательские учреждения, в особенности – философские. Все они были удручающе скучными и бездарными. Среди них были такие, которые помешались на политических темах. Были антимарксисты, контрреволюционеры и даже террористы. В общем и целом они были совершенно безобидны. Но иногда они нарушали меру, и их отправляли в сумасшедшие дома. Меня они любили и доверяли мне самые сокровенные тайны. А я, со своей стороны, не стремился разрушать их бредовые идеи, иногда даже вступал в игру с ними. Таким путем у меня сложилась даже целая группа, в которой тон задавал человек, помешавшийся на терроризме. Кто-то из сотрудников института однажды подслушал нашу беседу во время такой моей игровой «консультации» и написал донос в КГБ. Участников «группы» куда-то забрали, а меня стали таскать на допросы, намереваясь сфабриковать политическое дело. Но начался период хрущевской либерализации и десталинизации, и меня оставили в покое.
Впоследствии я использовал мой скорее комический опыт работы с сумасшедшими в книге «Желтый дом». Должен сказать, что я не взял от моих «психов» ни одной идеи. Используя этот материал в литературной работе, я приписал моим в основном вымышленным «психам» мои собственные идеи. Так что мой опыт работы с сумасшедшими мог мне дать лишь формальную подсказку. Думаю, что если у Чехова и были встречи с сумасшедшими, те мысли, которые он приписал в «Палате № 6» одному из обитателей палаты, не были мыслями какого-то реального сумасшедшего.В Советском Союзе ситуация чеховской палаты № 6 вышла далеко за рамки литературной модели общества. Здравомыслящая критика советского социального строя считалась и до сих пор фактически считается либо преступлением (клеветой на общественный строй), либо сумасшествием. Действия советской карательной медицины в свое время имели мировую известность. Могу упомянуть здесь о В. Тарсисе, который за критику советского общества отсидел в сумасшедшем доме несколько лет. Потом он написал повесть «Палата № 7», являющуюся почти документально точным описанием палаты, в которой он сидел сам. Не лечился, а именно сидел, т. е. отбывал наказание. После того как мои книги стали печататься на Западе, эмиссары советского правительства и агенты КГБ стали по всему миру распространять слухи, будто я был сумасшедшим. Угрозы быть посаженным в сумасшедший дом мне не раз приходилось слышать перед тем, как меня выслали из страны. Советская Россия в этом отношении, т. е. в отношении извращения реального соотношения разума и безумия, пошла значительно дальше дореволюционной России. Чеховская «модель» воплотилась в реальность.
ЧЕХОВСКАЯ ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ
Разумеется, после революции в России многое изменилось к лучшему. Но могут ли люди утешать себя тем, что раньше еще хуже было? В одном из ранних рассказов («Жизнь прекрасна») Чехов писал следующее. Чтобы понять, что жизнь прекрасна, надо радоваться сознанию, что могло бы быть еще хуже. Например, если тебя волокут в полицейский участок, то прыгай от восторга, что тебя ведут не в геенну огненную. Эта формула оказалась очень удобной в Советской России. В сталинские годы люди радовались тому, что получали ни за что десять лет лагерей строгого режима, а не двадцать пять. Когда осужденные говорили, что они не виноваты, следователи и судьи шутили: если бы осужденные были бы виноваты, то их осудили бы на 25 лет или расстреляли бы. Жизнь прекрасна! И теперь эта чеховская формула сохранила силу. К Советскому Союзу и на Западе применяют этот критерий: мол, пусть радуются тому, что при Сталине было хуже.
Жизнь изменилась к лучшему. Чеховские герои, может быть, даже и не мечтали о таких улучшениях. Но изменились и претензии людей к жизни. Изменились и критерии оценки явлений жизни. Чеховские герои могли бы утешаться тем, что во время татаро-монгольского ига еще хуже было. Для людей гораздо важнее то, как они воспринимают и оценивают свое положение в существующей системе критериев, а не по отношению к прошлому или будущему. А с этой точки зрения все общие проблемы чеховских героев ничуть не устарели.
ОБЪЕКТИВНОСТЬ В ЛИТЕРАТУРЕ
Одной из важнейших особенностей творчества Чехова, на которую обращало внимание большинство писавших о нем, является «объективная манера», отсутствие прямых авторских оценок изображаемого, предоставление возможности читателю самому делать выводы. Чехов многими считался писателем без ясного и определенного мировоззрения. Советское литературоведение, причесывающее Чехова под предшественника «социалистического реализма», с этим не соглашается и приписывает Чехову мировоззрение, какого у него на самом деле не было. Чехов на самом деле стремился избежать предвзятости и тенденциозности. Он считал, что писатель должен быть «объективен, как химик». Однако литература – не химия. Сам Чехов писал, что «писатель наблюдает, выбирает, догадывается, компонует», и это означает, что писатель заранее имеет какие-то намерения, ставит проблемы, которые ему кажутся важными, изображает своих героев и их поведение в таком виде, что читателю вольно или невольно навязывается некоторая тенденциозность. Это в химии утверждение о том, что молекула воды образуется из соединения двух атомов водорода и одного атома кислорода, не содержит в себе никакой авторской субъективности и не имеет следствием определенное эмоциональное и идейное переживание читателя. Писатель же изображает социальные атомы и молекулы (людей и их отношения) так, что они с необходимостью выступают перед читателем в субъективной авторской форме. Выстройте в ряд всех чеховских героев, и вы будете потрясены прежде всего не абстрактно декларируемой объективностью, а именно субъективной (специфически чеховской) манерой их выбора и изображения. Проблема, следовательно, не в том, чтобы провозгласить абстрактный принцип объективности литературы, а в том, что считать критериями правдивости и объективности в литературе. Человек субъективно болезненно честный и страдающий от всякого рода проявлений лжи, фальши, неискренности и лицемерия, он не мог избежать такого же отношения к своей собственной деятельности как писателя.
Особенно интересно здесь то, что об объективности литературы говорит писатель, по преимуществу являющийся юмористом и сатириком. Как совместить юмористически-сатирическое отношение к реальности, кажущееся крайне субъективным, с намерением быть объективным? Анализ творчества Чехова и мой собственный писательский опыт привели меня к таким выводам.
Надо различать юмор и сатиру как литературные средства, имеющие целью вызвать смех у читателя, и как средства познания и выражения результатов познания, имеющие целью отразить объективную сущность явлений жизни. Чехов был юмористом и сатириком не в первом, а во втором смысле. Он начал с развлекательного юмора, но скоро углубился до юмора познавательного и до сатиры социологической. Юмор и сатира во втором, познавательно-социологическом смысле не обязательно смешны. В величайших образцах литературной сатиры и юмора не так уж много смешного в обычном смысле слова. Они поражают точностью, краткостью, выразительностью и глубиной понимания социальных явлений. Они порождают внутренний, интеллектуальный смех. Они оцениваются по критериям интеллектуальной, а не развлекательной эстетики. Например, не так уж много смешного в развлекательном смысле в сочинениях Гоголя и Салтыкова-Щедрина. Перечитайте такие выдающиеся произведения чеховской сатиры и юмора, как «Человек в футляре» или «Палата № 6»! Вряд ли вы будете много веселиться. И уж совсем ничего смешного нет в чеховских пьесах, которые, по определению самого Чехова, суть комедии. Что это за комедии, если в них люди кончают жизнь самоубийством или погибают на дуэли?! И все-таки это – комедии, но комедии в смысле Данте и Бальзака.
Когда речь идет о сатире и юморе чеховского типа, то суть дела надо видеть не столько в субъективной способности и склонности автора видеть мир в комическом и карикатурном виде, сколько в самой реальности, которая может быть объективно описана лишь в сатирически-юмористической форме. Здесь сатира и юмор суть средства именно объективности, порою – единственные или по крайней мере самые адекватные реальности. Я испробовал все доступные мне литературные средства, чтобы быть объективным в отношении советской реальности, и убедился в том, что несатирическое ее описание есть нечто незначительное, ложь или апологетика.
Анекдоты в Советском Союзе дают гораздо более объективное описание советской реальности, чем сотни тонн сочинений официальной советской литературы, включая сочинения дозволенных властями «критиков» режима, вроде Евтушенко, Вознесенского, Айтматова. Критерии объективности литературы являются критериями внелитературны-ми. И важнейший из них – насколько точно и глубоко литературное произведение, каким бы оно ни было по форме, отражает сущность явлений жизни. С этой точки зрения повесть «Москва – Петушки» В. Ерофеева, являющаяся, на мой взгляд, одним из лучших произведений послевоенной русской литературы, отвечает самым высоким требованиям объективности, хотя по форме выглядит как пьяный бред. С этой точки зрения гневные стихи А. Галича и неистовые стихи В. Высоцкого суть предел объективности в поэзии.Тенденциозность (субъективность) в литературе бывает разная. Одна тенденциозность выражает личную любовь или нелюбовь автора к изображаемым явлениям. Другая тенденциозность выражает познавательную ориентацию интересов автора на изображение наиболее существенных явлений жизни, на постановку наиболее важных и глубоких проблем. Эта другая тенденциозность есть оружие литературной объективности. Литература социологического реализма не имеет иных путей быть объективной, кроме такой ориентировочной и выборочной тенденциозности.
ПСИХОЛОГИЯ И ЛИТЕРАТУРА
Общепринято считать Чехова тонким психологом. Я не возражаю против этого. Я просто считаю это мнение бессмысленным литературоведческим штампом. Психология в том смысле, в каком она изучается в науке психологии, и психология в том смысле, в каком ее изображают писатели в литературе, имеют мало общего между собою. Литературный психологизм не есть описание реальных психологических явлений в мире. Это есть лишь особая литературная форма описания явлений иного рода. Писатели, считающиеся тонкими психологами, не могли бы быть даже самыми заурядными экспертами в психиатрии и психологии. Я не делаю исключения на этот счет даже для Достоевского, который мог наблюдать какие-то психические болезни на самом себе. С этой точки зрения писательский психологизм есть вообще результат самонаблюдения, заимствования из других источников того же рода и просто здравого смысла.
Если объектом литературы являются люди, их поведение и отношения, то психологический аспект на самом деле есть столь же очевидный аспект поведения людей, как и внешний (видимый, физический) аспект. Принципиальной разницы между тем, что люди думают и переживают про себя, и тем, что они говорят и делают открыто, нет. Психологический аспект есть лишь «внутренний» вариант «внешнего». Конечно, тут имеет место несовпадение в том смысле, что человек может думать одно, переживать другое, говорить третье и делать четвертое. Но тут отсутствует принципиальное различие в том, что для каждой мысли и эмоции может быть найдено адекватное им слово и действие, и наоборот. Если писатель является «тонким психологом», это означает, что он умеет наблюдаемый им человеческий мир, одинаковый для писателей любого рода, изобразить в форме «внутренних» действий человека. Поэтому Толстой прекрасно изображал девушку и лошадь не потому, что он проник в особую психологию молодой девушки и лошади, а потому что он познал общечеловеческие явления, лишь придав им «психологическую» литературную форму.Раньше, когда я сам не занимался литературой как писатель, я до некоторой степени разделял общее заблуждение, будто писатель должен изучать психологию людей соответствующих категорий (детей, женщин, стариков, бюрократов, убийц и т. д.), чтобы создавать их литературные образы. Начав сам писать литературные произведения, я заметил, что писателю достаточно познать какой-то житейский минимум, исходя из которого он может по законам литературной пластики и комбинаторики выдумывать любых персонажей определенного рода и с любой «психологией». Я вспомнил слова Гоголя, когда его спросили, где он «подглядел» персонажей «Мертвых душ»: он сказал, что эти персонажи – он сам, Гоголь, в различных возможных вариантах. Большой писатель такого калибра, как Гоголь, Достоевский, Толстой и Чехов, содержит в себе в потенции огромное число личностей с самыми разнообразными вариантами «психологии». Научная психология делает открытия путем наблюдения реальной психической жизни и деятельности людей. Литературная «психология» есть плод воображения писателя, наблюдающего социальное поведение людей на самом обычном житейском уровне. То в литературе, что литературоведы относят к психологии, в большинстве случаев относится к неписаным правилам поведения людей в социальной среде, т. е., в лучшем случае, к социальной психологии, которая изучается методами социологии, а не научной психологии.
ПИСАТЕЛЬ И ЕГО ПЕРСОНАЖИ
Когда главным в литературном произведении становятся рассуждения о реальности, а реальность принимается в расчет лишь как материал и повод для рассуждений, возникает проблема взаимоотношения писателя и его литературных персонажей. В какой мере персонажи литературного произведения выражают мысли самого автора? В какой мере можно отождествлять автора с его героями? В этом случае порою бывает трудно разграничить убеждения автора и мысли его героев. В этом случае эстетические критерии оценки литературного произведения вытесняются критериями социально-политическими,– литературное произведение начинают рассматривать не столько с точки зрения литературного мастерства, сколько с точки зрения содержания высказанных в нем идей. Это и понятно: в этом случае главными героями литературы становятся сами идеи как таковые, а не их выразители – конкретные люди. Последние принимаются во внимание лишь как выразители идей. В этом случае к писателю предъявляют претензии, отождествляя его с его героями, а с другой стороны – рассматривая его произведение как описание реальной интеллектуальной (духовной) жизни общества или, точнее говоря, как описание интеллектуального слоя общества.
С этой точки зрения ситуация, сложившаяся для Чехова во второй период его творчества, является в высшей степени характерной. Многие критики отождествляли Чехова с его литературными персонажами, например – с Вершининым из «Трех сестер», с Орловым из «Рассказа неизвестного человека» и другими.
Насколько несправедливым бывает порою отождествление автора с его литературными героями, я много раз испытывал на самом себе. Меня отождествляли даже с советскими идеологами, которых я изображал в моих книгах далеко не в положительном виде. Но в таких случаях люди действовали не в силу непонимания отношения автора и его литературных персонажей, а с сознательным умыслом причинить мне зло. Думаю, что и в отношении Чехова отождествление его с его героями использовалось порою как средство нанести ему ущерб. Перечитывая Чехова и всякого рода критику по его поводу, я пришел к следующим выводам.
Писатель, пишущий рассуждения, живет и формируется в определенной интеллектуальной среде, слушает и читает мысли других людей, сам участвует в интеллектуальной жизни своей среды. Но его функция как писателя состоит вовсе не в том, чтобы записать, что говорят другие, и скомбинировать их речи в литературном произведении. Записывая то, что говорят другие, хорошее литературное произведение не создашь. К тому же люди обычно говорят всякий вздор, говорят сумбурно, интересная мысль в обычных разговорах – редкость. Писатель должен изобрести (выдумать) всю ситуацию разговоров, участников разговоров и сами разговоры сам, используя свой жизненный опыт лишь как отправной пункт и как сырой материал. Чехов не пересказал некие разговоры в кругах интеллигенции и вообще более или менее образованных кругах тогдашней России, а изобрел их как писатель. Изобрел в меру своего личного опыта, своего собственного интеллектуального уровня и литературного дарования.
Другой вывод, к которому я пришел, заключается в следующем. Ни в коем случае нельзя отождествлять высказывания литературных героев с убеждениями автора, какими бы близкими они ни казались. Интеллектуальный багаж писателя и его мировоззрение проявляются не в отдельных его персонажах, которые близки ему по убеждениям, а во всех его персонажах, включая персонажи отрицательные. Даже глупости, которые говорят персонажи произведения, суть элемент писательского интеллектуального багажа. Писатель изобретает ситуации, в которых герои высказывают свои убеждения, и сами эти убеждения. Но он характеризуется как писатель тем, насколько хорошо он все это изобрел.
Писатель, пишущий рассуждения, не просто описывает рассуждения других, как они ему представляются, но сам является участником этих рассуждений. Однако он участвует в них в особой роли – в роли писателя, а не равноправного партнера своих героев. В отношении писателя столь же правомерно поставить вопрос о его понимании той реальности, о которой рассуждают реальные люди и литературные герои. Но понимание реальности в той мере, в какой оно как-то выразилось в данном литературном произведении автора, рассредоточено во всем произведении. Оно фиксируется в произведении автора, независимо от того, кто высказывает ту или иную мысль, в какой форме и с какой целью. Если умную мысль высказывает отрицательный персонаж, это означает, что умен сам автор. Если глубокое понимание реальности обнаруживает литературный персонаж, которого автор вроде бы осуждает именно за это понимание, оно все равно входит в интеллектуальный багаж автора и свидетельствует о его глубоком понимании реальности.
В пьесе «Иванов», например, один персонаж советует другому строить жизнь по шаблону. «Чем серее и монотоннее фон, тем лучше, – говорит он. – Не воюйте в одиночку с тысячами, не сражайтесь с мельницами, не бейтесь лбом о стены… Запритесь себе в свою раковинку и делайте свое маленькое дело». Сам говорящий не следовал тому правилу, которое он советует другому. И это правило не есть убеждение самого автора. Но автор увидел в реальности, что масса людей следует этому правилу и живет без проблем. И это наблюдение и обобщение входит в интеллектуальный багаж автора как элемент его понимания реальности. В той же пьесе молодая девушка говорит, что «светляки светят ночью только для того, чтобы их легче могли увидеть и съесть ночные птицы, а хорошие люди существуют для того, чтобы было что есть клевете и сплетне». Опять-таки эта житейская мудрость была приобретена автором и лишь приписана вымышленной героине. Заметив, что общество не терпит хороших людей, старается загрязнить их и опорочить, автор отнюдь не воспринимает это как нечто оправдываемое морально. Он протестует против этого. Однако знание об этой объективной черте общественной жизни есть элемент его познания этой жизни.
В пьесе «Леший» один из героев говорит, что зло в мире происходит от вражды между хорошими людьми, что ум у людей идет на то, чтобы портить жизнь друг другу. Здесь в литературной форме выражена глубокая социальная мысль о реальных источниках зла в обществе. Эта мысль – из того же интеллектуального багажа автора. Но о ней нельзя сказать, что она есть убеждение автора. Она на какой-то момент может стать убеждением автора, но ее может в этой роли потеснить другая мысль. Это – не признак некоей беспринципности. Это – одна из особенностей литературного творчества.
Об убеждениях самого автора правомерно говорить лишь тогда, когда он отчетливо выражает их от своего имени. В противном случае допустимо говорить об утверждениях, высказанных в таком-то произведении писателя или таким-то персонажем писателя, а не об утверждениях самого писателя. Например, неверно говорить, будто с точки зрения Чехова мир погибнет от вражды между хорошими людьми. Верно будет сказать, что такой-то персонаж в таком-то произведении Чехова считает, что мир погибнет от вражды между хорошими людьми.Сказанное мною выше кажется совершенно очевидным. Но на практике такого рода очевидные правила редко соблюдаются.
ЧЕХОВСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К РЕАЛЬНОСТИ
В жизни хорошего все же больше, чем плохого,– заметил однажды Чехов. Жизнь прекрасна! – восклицают иногда его герои. Однако внимание Чехова занимает не хорошее, а плохое в жизни. Бочка меду, ложка дегтю,– не съешь горького, но не отведаешь и сладкого,– гласит старая русская пословица. А в бочке меда русской жизни оказалась не ложка, а ведро дегтя, которое настолько испортило содержимое бочки, что о наличии в ней меда приходится говорить лишь с оговорками и как бы между прочим. Главным содержанием творчества Чехова является описание «дегтя», т. е. зла, русской жизни. И всем своим творчеством он показал, что главный источник зла – господствующие социальные отношения. Чехов считает эти отношения противоестественными, ненормальными. Возникает, естественно, вопрос: а что является критерием естественности (нормальности) и противоестественности (ненормальности) социальных отношений? И как это утверждение о противоестественности социальных отношений согласовать с тем фактом, что в его же изображении они выступают как раз в их общечеловеческой нормальности и неотвратимости? Чехов сам дает ответ на эти вопросы, приняв нравственный критерий за высший критерий оценки явлений общественной жизни, отдав предпочтение ему перед критерием социально-политическим. Социальные отношения являются естественными с точки зрения социологической, с точки зрения неких законов природы. Но это не дает нам оснований оправдывать эти отношения и мириться с ними. Человечество в течение длительной эволюции выработало нравственный критерий различения добра и зла, справедливости и несправедливости, хорошего и плохого в человеческой жизни. Существующие социальные отношения противоестественны в том смысле, что порождают явления, не соответствующие нашим нравственным идеалам добра, блага, справедливости.
Эта позиция породила психологически безвыходную ситуацию для Чехова. Как преодолеть противоречие между реальностью и нравственным идеалом? Есть два пути: привести реальность в соответствие с нравственным идеалом или отказаться от последнего. История пошла не путем приспособления реальности к нравственному идеалу, а совсем иначе, принеся нравственный идеал в жертву объективной необходимости. Думаю, что Чехов в глубине души боялся именно такого решения противоречия и предчувствовал его. Отсюда – чеховская тоска по идеалу, чеховское отчаяние в отношении осуществления положительных идеалов в России. В наше время,– говорил один из героев Чехова,– легче потерять веру, чем старую перчатку. Будучи не в силах и не желая отказаться от гуманистических идеалов, Чехов обрекался главным образом на то, как справедливо заметил Горький, чтобы всем своим творчеством сказать людям: плохо вы живете!
Чехов не только видел мир в определенном разрезе и виде, но и определенным образом лично переживал увиденное. В его творчестве выразилось не только увиденное им, но и пережитое им самим по поводу увиденного. Думаю, что по мере созревания чеховского литературного гения второй аспект становился все более и болев! важным. И к концу жизни Чехов превратился в огромную незаживающую душевную рану,– явление, характерное для русской национальной судьбы и для выражавшей ее великой русской литературы, начиная от Пушкина и кончая Блоком и Есениным.Мне лично Чехов представляется в образе врача (а он был профессиональным врачом), который знает, что больной обречен, который не просто сочувствует безнадежно больному человеку, а переживает его судьбу как свою собственную, идентифицирует себя с этим больным, и который, вместе с тем, по долгу врача должен подавать какую-то надежду безнадежно больному близкому существу. Это – не роль священника у кровати умирающего или в камере осужденного на казнь, а роль целителя неизлечимых болезней.
НАСЛЕДНИКИ ЧЕХОВА
Чехову как писателю повезло во многих отношениях. Условия, в которых писал и публиковался Чехов, преподносятся как «кошмарные условия реакции и царской цензуры». Когда сравниваешь эти «кошмарные условия» с теми, в каких оказались современные русские писатели, находящиеся в таком же отношении к советскому обществу, в каком находился Чехов к дореволюционному русскому обществу, то становится смешно и грустно. При таком сравнении чеховские «кошмарные условия» кажутся просто райскими. Да и общая ситуация в литературе и для литературы была такая, о какой теперь и помечтать невозможно. Литература тогда играла главенствующую роль в культуре. Писатель имел почти непосредственный контакт с заинтересованным читателем. Была высокоинтеллектуальная литературная критика. Пресса еще не приняла вид современных средств массовой информации. Существовала читательская среда с высокоразвитым эстетическим вкусом. В писательской среде еще были довольно сильны моральные принципы.
Совсем иная ситуация сложилась для современных писателей, стремящихся продолжать традицию социологического реализма. Литература утратила свою лидирующую роль в культуре. Ее оттеснили на задний план кино, телевидение, массовые зрелища и сборища, видео, журналистика, политические спектакли, спорт. Сама литература разрослась количественно до неслыханных ранее размеров. Она стала массовым явлением не столько в смысле массы читателей, сколько массы писателей. Она превратилась в сферу индустрии, подлежащую уже не законам культуры и критериям эстетики, а законам производства, политики и пропаганды. Литературно образованный читатель (литературо-ман) стал редкостью, утратил влияние на развитие литературы и растворился в океане случайных читателей с примитивным и извращенным вкусом, если тут вообще уместно это слово. Рухнули эстетические критерии оценки продуктов литературного творчества. Их место заняли критерии антиэстетические – критерии тех необычайно разросшихся слоев населения, которые когда-то называли литературной чернью или мещанством. Утратила былую силу профессиональная литературная критика. Журналист занял место квалифицированного литературоведа. Снизился относительный интерес к литературе. Непомерно возросло идеологическое давление на литературу.
В литературном процессе нашего времени можно различить две линии: 1) горизонтальную и 2) вертикальную. Первая означает просто поток книг, ориентированный на интересы рынка, идеологии, политики. Вторая линия есть прогресс литературы как формы познания и изображения мира в соответствии с внутренними законами ее развития и эстетическими критериями. Эта вторая линия поглощается первой до такой степени, что практически можно констатировать ее разрушение в качестве основной линии развития литературы. Главным в оценке писателя стало не то, что нового он внес в литературное творчество, а то, насколько он отвечает вкусам и потребностям каких-то кругов общества, имеющих влияние на судьбу писателей и литературных произведений.
Но особенно тяжелые условия сложились для русских писателей, желающих продолжать традиции русского социологического реализма в новых условиях,– для литературных наследников Чехова. В официальной советской литературе, которая создается и печатается с разрешения властей и в рамках литературных учреждений, ей вообще нет места. Причем главная причина этого – не столько запреты со стороны властей, сколько сама организация литературного дела. Официальная советская литература – это десятки тысяч людей, объединенных в различные организации, имеющие сложную социальную структуру и иерархию, выполняющие разнообразные функции. Талантливые писатели, действующие во имя истины и красоты, являются среди них редким исключением. Подавляющее большинство писателей и прочих деятелей литературной индустрии выбрали эту сферу жизнедеятельности исключительно из эгоистических соображений. На роль писателей здесь отбираются люди особого рода, такие, для которых советский строй жизни есть их родной строй. Они получают специальную подготовку, как быть не писателем вообще, а писателем советским. Они живут в конкретных советских условиях, а не витают в облаках, т. е. зарабатывают деньги, приобретают квартиры, дачи и машины, делают карьеру, заслуживают чины, награды, звания. Они сами образуют лестницу социальных позиций с соответствующей лестницей распределения материальных и прочих благ. Многие из них занимают официальные посты и входят в органы власти. Многим достаточно написать одну книжку, чтобы всю жизнь считаться писателем и жить безбедно. Такие писатели являются высшей властью в литературе. Они решают, что следует писать и как писать, что разрешить печатать, а что нет, кого и как награждать, кого и как наказывать. Высшая власть в советской литературе – сами советские писатели. Главный враг талантливого советского писателя – другой писатель, но посредственный. А таковых подавляющее большинство. Их роль – низвести литературный талант одиночек до уровня посредственности массы писателей. Они всеми силами стремятся утвердить в литературе господство посредственности, т. е. свое собственное господство. Партийные и государственные органы заявляют о себе лишь после того, как сами писатели не могут справиться с непокорными одиночками своими силами.
Существующая в СССР система обсуждения, рецензирования и издания литературных произведений ни в какой мере не является помехой для многих тысяч бездарных литературных чиновников, именуемых писателями. Масса писателей выполняет эти функции сама и добровольно. Она рассматривает это как свой долг и даже как привилегию. Это – часть ее образа жизни. Масса советских писателей являются вполне адекватными представителями советской социальной системы и идеологии. Считается, что советская литература находится под гнетом идеологии и цензуры. Удобная легенда! Каждая бездарность может мнить себя гением, которому власти не дают возможности развернуть во всю мощь свои таланты. На самом деле советская литература несвободна только в том смысле, что далеко не всякий может писать что хочет и как хочет, рассчитывая на публикацию, успех и вознаграждение. В этом смысле и западная литература не свободнее советской. Но советская литература свободна в том смысле, что подавляющее число граждан, ставших писателями, пишет что могут и как могут писать, пишет во всю мощь своих способностей. Несвобода литературы здесь определяется тем, какие люди и как отбираются или пробираются в писатели, как воспитываются, какое получают образование, как организуются и работают в качестве писателей. Став же писателями, эти люди в большинстве своем оказываются такими, что они хотят и могут писать именно то и так, как это требуется условиями общества и его идеологией. Это – общее правило, имеющее силу для любого современного общества, в том числе – и для западного. Наивно думать, будто советские писатели начнут сразу создавать шедевры, если отменить цензуру и прочие ограничения. Если даже разрешить частные издательства, неподвластные цензуре, и обязать магазины беспрепятственно продавать их продукцию, положение в литературе вряд ли изменится в лучшую сторону. Скорее всего, оно ухудшится. Бездарные сочинения, выпускаемые на потребу мещанства и «черни», заполонят книжный рынок. Талантливые писатели, делающие вклад в литературный прогресс, исчисляются единицами. Они нуждаются не столько в свободе творчества, которую они просто берут без разрешения сами, а в защите. Литературные открытия не сделаешь по заказу. Они – редкость. Они мало зависят от политических свобод. Разоблачительная литература, создаваемая обычно поспешно и на низком эстетическом уровне, скоро приестся. А в условиях отсутствия контроля литературные сорняки заглушат ростки настоящей литературы.
Но самые тяжелые условия сложились для русской литературы в эмиграции на Западе. Советская литературная критика и пресса практически ее игнорирует. А если она изредка и упоминает о ней, то только с чисто политической точки зрения. Круг читателей ее в Советском Союзе чрезвычайно узок. Массовый рядовой читатель, который мог бы стать судьей ее художественного уровня, для нее недоступен. Серьезной литературной критики для нее нет и на Западе. То, что пишется о ней, является тенденциозным, поверхностным и дилетантским. Пресса уделяет ей внимание не столько с эстетической, сколько с политической точки зрения. Незначительные в художественном отношении произведения превозносятся как литературные шедевры, а подлинные художественные открытия игнорируются. Нарушены все критерии качественности и масштабности авторов и их произведений. Причем это делается вполне сознательно и преднамеренно, в соответствии со стратегией правящих сил Запада занижать всеми способами достижения русской культуры.
Русскому писателю, выброшенному из своей страны, писать о Западе квалифицированно невозможно. Он все равно будет писать о знакомой ему советской жизни. Но для литературы нужны детали, которые нельзя выдумать и которых на Западе не увидишь. Русскому писателю нужен читатель, чувствующий тонкости русской литературы и дающий знать писателю о том, что он получает удовольствие от чтения его сочинений. На Западе такого читателя нет или почти нет. Интерес к советской тематике тут не такой уж сильный, как это казалось, глядя из России, и не совпадает с литературными интересами настоящих русских писателей. Свобода творчества и публикаций оказалась иллюзорной и искусственно преувеличенной пропагандой, в которой она создается, распространяется, читается и оценивается.
В последние несколько лет «свободная» русская литература получила в дополнение ко всему удар в спину. Запад попался на удочку горбачевской «перестройки» и «культурного ренессанса» в России и предал забвению все то, что сделали представители «свободной» русской литературы, чтобы раскрыть глаза западным людям на сущность советского социального строя и всего советского образа жизни. Теперь на Западе мнение советских партийных чиновников и их литературных лакеев ценят выше, чем то, что представители «свободной» русской литературы выработали ценой целой жизни. О сущности нынешнего «культурного ренессанса» и горбачевизма вообще я писал в книге «Горбачевизм» и отсылаю к ней заинтересованного читателя. Здесь же замечу, что горбачевский «культурный ренессанс» есть лишь обыкновенное воровство из запрещенной в Советском Союзе «свободной» литературы и жалкое подражание ей.
«Свободная» русская литература оказалась в положении, в котором она не способна даже отстоять свой приоритет и свое новаторство. И нам, подлинным наследникам Чехова, остается лишь одно: мечтать о таких «кошмарных» условиях, в которых жил и творил Антон Павлович Чехов. Мюнхен, декабрь 1987 г.
[1] Первая на русском языке и единственная публикация в России эссе А.А.Зиновьева «Мой Чехов» состоялась в 1992 году в журнале «Звезда» (1992, № 8).
[2] Первая публикация в России романа А.А.Зиновьева «Живи» состоялась в 1991 году в журнале «Звезда» (1991, № 10).
Красухин К. Чины и награды персонажей в русской литературе // Литература. 2004, № 11. с.9-14.
«Главным путеводителем в столь непростой и мало раскрытой у других авторов теме чиновничества в творчестве Чехова послужила для меня статья А. Зиновьева «Мой Чехов» Русский писатель – эмигрант и социолог, живущий ныне в Мюнхене, известный у нас как автор книги «Зияющие высоты», пишет в данной статье именно о «своем» Чехове, не претендуя на вклад в чеховедение. Чехов для него был с раннего детства неотъемлемым элементом духовной жизни, оставаясь до зрелых лет постоянным спутником автора (чувство совместно прожитой жизни) и своеобразным маяком в собственном научном и литературном творчестве. В этой книге Зиновьев рассказывает о том, что ему довелось перечувствовать и передумать в связи с Чеховым и с его участием. Автор делает попытку социологического анализа творчества Чехова, исследуя чиновничьи отношения (в послереволюционной России) как базисные для общества, что и являлось объектом литературного творчества Чехова. По Зиновьеву, чиновник – одна из центральных фигур в сочинениях Чехова, а представителей других социальных категорий он видит в их чиновничьеподобных функциях и отношениях. А. Зиновьев считает себя продолжателем салтыковского – чеховского направления в русской литературе, которое определяет как социологический реализм и довел в своем творчестве до логического конца, придав ему вид сознательной литературно – логической концепции в своих книгах. Единственно и только у А. Зиновьева я обнаружил системный и глубоко научный подход к исследованию темы чиновничества в творчестве Чехова и в своих рассуждениях и умозаключениях многое взяла из его авторской концепции. Мне кажется, что эта статья заслуживает серьезной методической разработки для более глубокого понимания творчества Чехова старшими школьниками в ключе социологического реализма».

