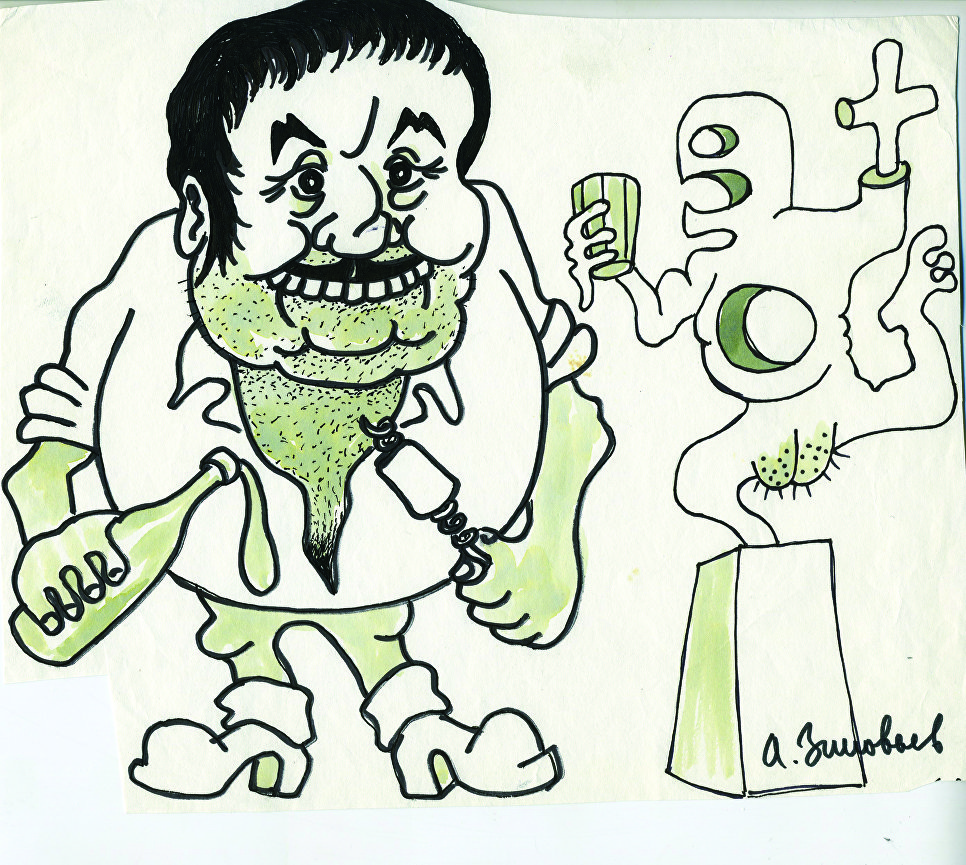О смерти Неизвестного, которому этой весной исполнился 91 год, сообщил в фейсбуке его друг Олег Сулькин. На Западе Неизвестный прожил последние 40 лет: в 1976 году он эмигрировал из СССР, где его искусство называли «дегенеративным», сначала в Швейцарию, а затем в США.
Уничижительное определение работам Неизвестного дал в 1962 году на знаменитой выставке авангардистов тогдашний советский генсек Никита Хрущев. Тем не менее после его отставки и кончины Неизвестный, по просьбе родственников Хрущева, создал надгробный памятник бывшему Первому секретарю ЦК КПСС на Новодевичьем кладбище.
В конце Второй мировой войны Эрнст Неизвестный был тяжело ранен, причем его ошибочно сочли погибшим и за проявленный героизм «посмертно» наградили орденом Красной Звезды. В 1955 году Неизвестный стал членом секции скульпторов Московского отделения Союза художников СССР и до 1976 года занимался художественной деятельностью в Советском Союзе.
1976 году Неизвестный эмигрировал в Швейцарию, а в 1977 году переехал в США (Нью-Йорк). В последние годы перед отъездом за Неизвестным велась открытая слежка. Ему настойчиво предлагали остаться в СССР, долго не давали разрешения на выезд. По словам скульптора, незадолго до эмиграции власти СССР попросили его сделать бюст Брежнева в обмен на возвращение престижных заказов, но он отказался. Последней работой Неизвестного в Советском Союзе стал барельеф на здании архива ЦК компартии Туркмении в Ашхабаде.
Спустя год после эмиграции Неизвестный уже неплохо освоился в Нью-Йорке, хотя сам говорил, что чувствует себя на Западе «ребенком». В 1977 году скульптор выступил с речью на презентации выпущенной в Швейцарии книги своего друга, советского писателя и ученого Александра Зиновьева «Зияющие высоты».Запись этого выступления и ответов Неизвестного на вопросы американских журналистов сохранилась в архивах Радио Свобода. На пресс-конференции после вступительного слова Эрнст Неизвестный рассказал, в частности, о том, как за ним велась слежка и как он отказался от предложения советских властей сделать бюст Брежнева:
«В 62-м году меня выгнали [из Союза художников] после столкновения с Хрущевым. Это отразилось на моей судьбе следующим образом. 10 лет я не имел возможности работать как скульптор. Я не имел заказов, я не имел материалов. Я работал кем угодно. Я работал рабочим на заводе, литейщиком, каменщиком. Не под своим именем я помогал некоторым официальным художникам делать их официальные вещи. Я зарабатывал самыми разными способами. Я подвергался всем формам травли. Я был обвиняем во всех грехах. Навряд ли есть какой-то пункт, в котором меня не обвиняли. Второй раз, последний, я был выгнан из Союза [художников] в день подачи заявления с просьбой выехать из Советского Союза. В течение года с лишним я был лишен мастерской и снова начал обвиняться во всех тех грехах, в которых обвинялся раньше. Кончилось все тем, что мне предложили остаться и предложили вылепить бюст Брежнева. Но я отказался.
В течение года за мной велась «открытая слежка». Что это значит? Около моей мастерской дежурили две машины. Не скрывая, что они имеют отношение ко мне. В одной машине сидело несколько очень больших мужчин, а вторая машина была с рацией. Причем машина с рацией была очень необычного для России цвета, такого цвета, как в Америке такси, то есть она бросалась в глаза. Я со своими помощниками прозвал эту машину «желтый «Ягуар», исходя из романа Сименона. Я вел себя в ателье таким образом, будто бы этой машины не существует, потому что считал, что это психологическое давление, потому что следить можно и не из желтого «Ягуара». В конце концов, в одно прекрасное утро ко мне постучали в дверь. Пришел шофер из этой машины, который сказал, кто он и что он здесь делает. Он сказал, что да, эта машина прослушивает все, что происходит в моей мастерской. Но он сказал, что за время работы со мной он полюбил меня, он уважает меня и сейчас он хочет со мной начать сотрудничать – в смысле передачи информации на Запад. Я ему сказал, что я этим заниматься не хочу. И моя помощница написала стихотворение, которое называлось «Желтый «Ягуар». И мы его хором читали. Эта поэма была написана в элегических тонах и, как было сказано, «в соавторстве с русским элегическим поэтом Плещеевым». Я приведу одну строфу из этой поэмы, чтобы вы могли понять, как они на нас обиделись.
Осень наступила, мокрый тротуар
И стоит уныло желтый «Ягуар»
Рацию сломали, сел магнитофон
Лучше бы послали слушать телефон
Чистая работа, просто и легко
Дождик заливает мутное стекло
Осень уже скоро, улетят грачи
Видит – у забора мокнут стукачи
Им, конечно, хуже – дождик так и льет
Видит, как от стужи мокрых их трясет
…
Кончится, конечно, время суеты
Ведь ничто не вечно, отдохнешь и ты
Господин, сидящий в машине, так обиделся, что перестал со мной здороваться. Потом его сменили – не знаю, с понижением или с повышением. Ну а потом мне сломали палец, ребра, нос», – вспоминал Эрнст Неизвестный в 1976 году, разговаривая в Нью-Йорке с американскими репортерами.
В интервью журналисту Радио Свобода Владимиру Юрасову спустя два месяца после своего приезда в США Неизвестный рассказывал о замысле памятника жертвам сталинских репрессий, который появился у него еще до XX съезда ЦК КПСС, на котором произошло развенчание культа личности Сталина. Сразу после съезда к Неизвестному приходили представители властей, которые попросили его сделать модель такого монумента. Однако вскоре эта идея была заброшена советским руководством.
– В печати появилось ваше предложение о создании памятника жертвам сталинщины, памятника, о котором говорил еще Хрущев и о котором недавно внесли предложение, по-моему, восемь ленинградцев.
– В действительности Хрущев объявил о таком решении партии, в действительности ко мне пришли три видных человека прямо с ХХ съезда, поскольку я работал над серией работ под названием «Концлагерь» в Москве. Эта тема мне была близка. Они об этом знали, и они меня попросили сделать модель монумента. Я сделал эту модель, но период оттепели кончился и этот проект был забыт. Но я не забыл об этой теме и продолжал работать.
– Что из себя представляет ваш замысел этого монумента памяти загубленных миллионов людей, советских людей в годы сталинщины?
– В прошлом эта модель представляла из себя следующее: плоскость 500 квадратных метров, покрытая гранитными плитами, на эту плоскость ставился второй объем в виде параллелепипеда и на этом параллелепипеде сидела маленькая тоненькая скорбная девочка или девушка, закрывшая лицо руками – босоногая Россия, скорбящая об великих утратах. Плоскости архитектурного монумента должны были быть испещрены бесконечным рядом цифр лагерей. Тогда этот монумент рассматривался не как монумент протеста, а как монумент скорби. Сейчас я восстанавливаю этот проект, я считаю это своим гражданским долгом.
– Вы меняете тему скорби на тему протеста?
– Я по фотографиям и чертежам хочу восстановить бывшее решение. В процессе работы, видимо, прошло время, будут внесены некоторые изменения, сейчас мне трудно сказать, какие конкретно.
– Но где же найти место на Земле для такого памятника? В Советском Союзе нынешнее высокое начальство, судя по тому, как оно старается замолчать сталинщину, монумент памяти загубленных Сталиным людей не разрешит. Где же тогда?
– Самое лучшее и самое правильное было бы поставить его в России, но, увы, на сегодняшний день, видимо, это невозможно. Я считаю, что такой монумент, пусть меньших размеров, должен быть установлен на Западе, как символ, что память о погибших жива. Это необходимо.
– Эрнст Иосифович, но вот кончился 1976 год, год, когда вы покинули Советский Союз, родину, начался новый, 1977 год. Что бы вы хотели пожелать своим землякам, друзьям, близким вашим в Советском Союзе?
– Есть общее пожелание – пожелание счастья, пожелание благополучия и пожелание здоровья и успехов. Но я бы хотел их расшифровать. Я всегда был персоналистом, я всегда отстаивал право на собственное Я, и первое и самое главное, что я хотел бы пожелать своим землякам – больше быть человеком вообще, Человеком с большой буквы и меньше подданным, меньше чувствовать себя связанным ложными иллюзиями и ложными обязательствами. Я желаю своим землякам свободы. Свободы передвижения и творческих возможностей на любой работе, начиная от работы землекопа, крестьянина, кончая работой интеллектуала. Дело в том, что свобода порождает инициативу, инициатива порождает хороший труд. Поэтому не рабства, а инициативы я желаю своим землякам.
Я мечтал увидеть Италию, я мечтал увидеть мир, я многое увидел, но для этого мне нужно было совершить поступок по существу ненормальный – мне нужно было порвать со всем, что мне было дорого, с семьей, с друзьями, с местом, за которое я воевал. Я желаю им в будущем права путешествовать без таких трагических поступков, без такого драматизма. Я мечтаю, что моя дочка, как дочка любого египтянина, испанца, американца, француза, просто как молодая художница, в тот день, когда она захотела, могла бы поехать и посмотреть французское и итальянское искусство. Мир един, культура мира едина, и я бы желал, что эта нормальная ситуация наконец-то наступила и в Советском Союзе, чтобы могли ездить не только избранные, а чтобы могли ездить все. Я здесь в борьбе завоевал право иметь два огромных ателье в Цюрихе и в Америке. Мечтой моей жизни было увидеть свой рисунок, хотя бы отойдя на пять метров – это было невозможно. Я желаю своим коллегам иметь возможность, минуя все бесконечные бюрократические инстанции, весь табель о рангах, исходя из собственного труда иметь те ателье, которые им нужно. Я желаю свободы и благополучия. Но я хотел бы, чтобы мои земляки поняли, что материальное благополучие и свобода – синонимы. У нас часто думают: порядок – есть синоним благополучия. Но свобода и есть порядок. Я желаю материального благополучия как следствия личной свободы для людей России. А руководителям России я желаю подумать о собственных детях и о собственных внуках. Потому что сегодня, может быть, их дети могут пользоваться благами свободного передвижения и материальными благами, но при сложившейся структуре мы же все знаем, что завтра они будут лишены этого, как дети вчерашних вождей. И я прошу их подумать о будущем собственных детей, если они не хотят думать о будущем моей дочки и о будущем моих друзей. Я хочу, чтобы они были хорошими отцами и дедами.
Что касается личных и более интимных пожеланий, я своим друзьям хотел бы пожелать, естественно, здоровья, спокойствия и благополучия. Но поскольку мои друзья в основном люди творческого труда, я хотел бы пожелать им подлинных успехов в их творчестве. Этого я хотел бы пожелать своей маме, я хотел бы, чтобы ее книги печатались. Отцу своему я хотел пожелать здоровья. Своей семье благополучия и спокойствия, чтобы они не очень грустили, что я далеко, поскольку я с ними душой, чтобы они это знали. Дочке я хотел бы пожелать, чтобы она благополучно завершила диплом, чтобы она была выносливой, честной и хорошей. Пожелать ей хочу, чтобы она знала, что я ее очень-очень люблю. Друзьям, которые работали со мной в мастерской, я желаю, чтобы они продолжили наше общее дело, чтобы они не отступали, чтобы они продолжали быть художниками, работали внутри искусства и не сбивались на коммерческое искусство. Кроме того, я желал бы их всех видеть и хочу им пожелать этой возможности. Мои дорогие соотечественники, моя семья, мои друзья, всем вам желаю счастья, благополучия и, главное, внутренней свободы и спокойствия.
Реализовать идею памятника жертвам репрессий Неизвестный смог уже после распада СССР. Он не раз возвращался и работал в России. В 1996 году Неизвестный закончил монументальное, высотой в 15 метров, произведение «Маска скорби». Эта скульптура установлена в Магадане. Он также является автором многих других известных практически каждому россиянину скульптур – например, статуэтки телевизионной премии «Тэфи».
В 2005 году, вскоре после его 80-летия, с Эрнстом Неизвестным беседовала в Нью-Йорке журналист, автор газеты «Новое русское слово» Майя Прицкер.
– Как вы вообще пришли к скульптуре, что, в первую очередь, вас сформировало как скульптора?
– Самое интересное, что очень рано я начал рисовать и лепить. Моя мама вспоминает, что я лепил из хлебного мякиша различных существ, рыцарей и, даже кентавриков. А когда моя тетка возмутилась, потому что то время не было богатым, но мама сказала: «для моего сына искусство важнее пищи».
– Какая умная мама!
– Во всяком случае, романтичная.
– Что вас сформировало как скульптора, каким вы сейчас являетесь?
– Могу вам сказать одну вещь, которую я потом, позднее, понял. У Юнга есть такая теория – коллективное бессознательное, смысл которой в том, что всякие архаические образы живут у нас в коллективном сознании, так что мы иногда знаем больше, чем знаем. Меня формировала моя фантазия. И уже позднее я с удивлением узнал, что я повторяю многие архетипы, которые есть в различных искусствах, но которые я не видел вокруг себя. То есть в искусстве эскимосов, в мексиканском искусстве, в русском народном искусстве. Это совмещение практически в жизни не виденного совместимого – человека и зверя, многоголовых существ, например, в буддизме или в индуизме. Я с удивлением это узнал. Но, в действительности, меня называли модернистом и ругали за модернизм. Я никогда себя модернистом не считал, потому что моим любимым искусством является древнее искусство. Я исходил из классики. Трансформировал эту классику с потребностями моего чувства, а не моды. Но, конечно, использовал современные элементы, как кубофутуризм. И я постарался объединить, поженить модерн с классическим искусством.
– Бронза и камень. Вы работаете с обоими материалами. Что дает вам каждый из них?
– Бронза дает свободу. Потому что сама технология бронзы изумительно подвижна и трепетна. Итальянский скульптор Мансу даже мог отлить цветок, настолько бронза трепетна. Любое твое дыхание, движение, прикосновение пальца или стека может быть воспроизведено в бронзе. Камень всегда меня привлекал и до сих пор привлекает, просто сейчас я с ним не работаю, по практическим причинам. Хотя не так давно вырубил два четырехметровых тотема в каррарском мраморе. Камень поразителен тем, что это одушевленное существо, это спящая душа скульптуры внутри глыбы. Ты вступаешь в единоборство с этой стихией, и враждебной, потому что это твердо и жестко, потому что требует и физических усилий и нравственного контроля, внутренней дисциплины, чтобы не испортить, и, одновременно, невероятно дружелюбной, ласковой, светящейся, обладающей, буквально, душой. У меня к камням отношение трепетное, как будто это диалог, если не с живой душой, в смысле животного и человека, то с душой стихии, природной стихией. Недаром горы дышат, светятся. Горы – это мистическое чудо. Камень мистичен уже от природы.
– Что вы пережили, когда оказались на Западе? Что вас поразило, что вы чувствовали, кем вы себя чувствовали, каким вы себя чувствовали?
– Я себя чувствовал, с одной стороны, очень обласканным. И я до слез был тронут после злобы, угнетения, недоверия, клеветы, лжи и насилия, которые я испытал в России. Я даже как-то плакал. Никогда не забуду. Когда я был в Женеве, я пошел на урок французского языка, и там была прелестная молодая девушка, которая учила нескольких эмигрантов. И когда она приседала передо мной, всей душой хотела объяснить, рисовала, чтобы я что-то понял, и все это бесплатно… У меня вдруг слезы на глазах навернулись. В России никто, кроме близких и любимых, не был так чуток, внимателен и отзывчив. Я подумал: «Боже мой, за что? Я для них еще ничего не сделал!» Я был обласкан, когда приехал. Энди Уорхолл, Ростропович, Солсбери – все меня ласкали и обращались со мной как с почетным гостем и как с ребенком. Тут они были правы. Я в действительности был ребенком, потому что все это страшно угнетало. Надо было учиться ходить, все не то. По телефону звонишь – другой звук, чем в России. Останавливаешь такси, которое зажжено потому, что оно занято, а оно свободно. Каждый жест, простой жест… даже как пиво открывать. Пиво я открывал зубами в России, иной раз. Это даже было особое лихачество. Здесь я зубами попробовал – челюсть свернешь. У меня до сих пор такая растерянность. Все-таки я читал лекции по философии искусства, по изобразительному искусству, по анатомии в Колумбии, в Гарварде, во многих [университетах]. И как-то у меня слова сочетались, меня понимали, задавали вопросы. А сейчас если я пойду в магазин, то я не знаю, как называются 99% предметов, и никак не могу запомнить. Я не могу этого держать в голове. Я себя чувствую абсолютно второсортным человеком.
– Тогда все-таки вернемся к творчеству и к общей творческой ситуации. Я сейчас процитирую вас. Когда-то вы сказали одному западному корреспонденту, находясь еще в России: «В 60-е годы (после того знаменитого скандала с Хрущевым) у меня не было заказов, но были надежды». «Сейчас у меня есть заказы, но нет надежд» – это вы сказали в 70-е годы. Какую формулу вы бы вывели сейчас?
– Сейчас у меня есть заказы и есть надежды. Вот и вся формула.
Писатель и постоянный автор Радио Свобода Александр Генис так говорит о Неизвестном: «Эрнст Иосифович, наверное, самый известный обитатель русской Америки. Во всяком случае, он так органично вошел в пейзаж, что я не могу себе представить нашу Америку без его работ, без его выставок, без встреч с ним. Человек неукротимого темперамента, мужества и обаяния, художник могучего дарования и трудолюбия, мыслитель ренессансного кругозора, Неизвестный производит оглушающее впечатление на каждого, кому повезло его встретить».
«В первую встречу он ошеломлял напором философского красноречия: два лика Хрущева, черное солнце Достоевского, “красненькие” из Политбюро, битва богов и титанов. Лавина грандиозных концепций, клубки замысловатых метафор, крики пьянящих пророчеств – все это валилось залпом без перерыва и продыха. Примерно так я представлял себе Ренессанс, Неизвестный – тоже, ибо не скрывал своих амбиций, главная из которых заключалась в том, чтобы избавить свое искусство от банального “человека в штанах”.
К счастью, сломив собеседника своей непомерной личностью, Эрнст становился доступным и обаятельным. Несмотря на то что завистники обвиняли Неизвестного в гигантомании, в юности у него был трогательный роман с цирковой лилипуткой.
– У лилипутов, – заметил Бахчанян, – свои маленькие слабости.
Студия Неизвестного располагалась в сердце Сохо, и он радушно принимал всех, кто заходил. Пользуясь этим, мы с Вайлем однажды забрели к нему зимним вечером. Впустив нас в мастерскую, Эрнст попросил подождать, пока он выскочит за угол по неотложному делу. Захлопнув двери, Неизвестный механически выключил свет, и мы оказались запертыми наедине с его скульптурами в почти полной темноте. Света от уличного фонаря хватало лишь на то, чтобы каменные монстры отбрасывали кошмарные тени. Неизвестный именовал свои работы, как пишут в песенниках, «раздумчиво»: «Ожидание», «Терпение», «Одиночество». Но не знавшие этого могучие скульптуры с обломками ног и рук сгрудились вокруг нас, как персонажи «Вия», и, находясь посреди Манхэттена, мы не могли рассчитывать на петуха, разогнавшего бы криком нечисть. Тем более, что зимой светает поздно. Окоченев от ужаса, мы боялись пошевелиться. Как это часто бывает, нас выручила водка. Ползком и на ощупь мы пробрались на кухню и открыли холодильник. При свете его одинокой лампочки мы нашли бутылку «Камчатки», возле которой Эрнст и нашел нас изрядно посмелевшими.
Шли годы, но Неизвестный, крутой утес авангарда, не менялся. Он всегда мыслил и творил с размахом.
– Из студии, – однажды сказал он, не скрывая гордости, – украли скульптуру в две тонны.
Между тем неумолимый и безжалостный ход прогресса привел к тому, что напротив мастерской Неизвестного поселился Олег Кулик, сверхновая звезда русского искусства, освободившегося наконец от кремлевской цензуры. Незадолго до этого я познакомился с ним в Москве за трезвой – ввиду великого поста – трапезой. Изображая собаку, Кулик приехал в Нью-Йорк в клетке, надежно запертой после того, как он искусал шведского критика. Когда я навестил Кулика в Сохо, он посмотрел на меня умными глазами и дружелюбно полаял.
Неизвестному тоже было интересно взглянуть, насколько далеко ушло отечественное искусство с тех пор, как он его оставил, но не решаясь уронить себя в глазах ротозеев, Эрнст сперва отправил туда выписанного с Урала флегматичного помощника. Пять минут спустя тот вернулся, но уже с пеной на губах.
– Эрнст Иосифович, – заорал он, – где топор?! Там американцы русского человека, как последнюю дворнягу, голым в клетке держат.
– Жизнь коротка, – вздохнул Неизвестный, – зато искусство вечно».